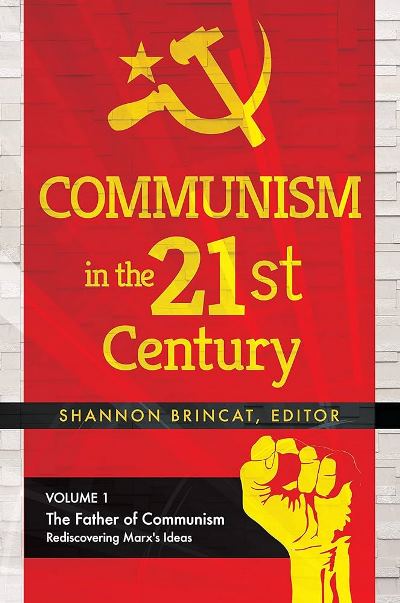Реферат, сделанный нейросетью Gemini.
Резюме трехтомного сборника «Коммунизм в XXI веке» под редакцией Шеннона Бринката.
Библиографические данные
Title: Communism in the 21st Century
Editor: Shannon K. Brincat
Volumes:
Volume 1:
The Father of Communism: Rediscovering Marx’s Ideas
Volume 2: Whither Communism? The Challenges of the Past and the Present
Volume 3:
The Future of Communism: Social Movements, Economic Crises, and the Re-imagination of Communism
Publisher: Praeger, an imprint of ABC-CLIO, LLC
Place of Publication: Santa Barbara, California
Year of Publication: 2014
ISBN:
Hardcopy set: 978-1-4408-0125-9
Ebook: 978-1-4408-0126-6
Файл (на английском)
Общее введение и цели серии
Сборник «Коммунизм в XXI веке» представляет собой масштабную попытку переосмыслить коммунистическую теорию и практику в контексте современных глобальных вызовов. Серия выходит в период, когда после десятилетий триумфа неолиберализма и тезиса о «конце истории», мир столкнулся с глубокими кризисами: глобальный финансовый кризис 2008 года, рост социального неравенства, экологические угрозы и новые волны протестных движений, таких как Occupy и Арабская весна. Эти события вновь пробудили интерес к марксистской критике капитализма и поиску альтернативных путей развития.
Основная цель серии — не просто реабилитировать коммунизм, а кардинально пересмотреть его, отделив от трагического наследия авторитарных режимов XX века. Редакторы и авторы решительно отвергают догматизм «реального социализма», ГУЛАГ, сталинизацию, Культурную революцию и другие преступления, совершенные во имя коммунизма. Вместо этого они стремятся вернуться к гуманистическому ядру учения Маркса, делая акцент на таких понятиях, как эмансипация, участие, солидарность и всестороннее развитие человеческой личности.
Серия структурно разделена на три тома, каждый из которых посвящен отдельному аспекту:
- Том 1: «Отец коммунизма: новое открытие идей Маркса» — возвращение к первоисточникам и теоретическим основам марксистского видения будущего общества.
- Том 2: «Куда движется коммунизм? Вызовы прошлого и настоящего» — анализ исторических провалов, внутренних расколов левого движения и исследование современных государств и движений, идентифицирующих себя как коммунистические.
- Том 3: «Будущее коммунизма: социальные движения, экономические кризисы и новое воображение коммунизма» — исследование новых форм борьбы, теоретических разработок и практик организации, которые могут определить облик коммунизма в XXI веке.
Главный тезис, проходящий через все три тома, заключается в том, что коммунизм сегодня — это не предопределенное будущее или жесткая доктрина, а «реальное движение, которое уничтожает теперешнее состояние вещей». Это движение должно быть основано на самоосвобождении людей и строительстве новых социальных отношений, свободных от иерархии, эксплуатации и отчуждения.
Том 1: «Отец коммунизма: новое открытие идей Маркса»
Первый том посвящен глубокому теоретическому анализу видения коммунизма самим Марксом. Авторы стремятся очистить его идеи от наслоений догматического марксизма-ленинизма и показать их непреходящую актуальность.
Терри Иглтон открывает том, восхваляя Маркса как выдающегося морального мыслителя и романтического гуманиста. Для Иглтона, Маркс был не столько экономическим детерминистом, сколько философом, который понимал, что истинное самоосуществление личности возможно только в обществе и через отношения с другими. На межличностном уровне это называется любовью, а на политическом — социализмом. Маркс, по мнению Иглтона, был пророком в библейском смысле: он не предсказывал будущее, а предупреждал, что если человечество не изменит свои несправедливые пути, его ждет катастрофа.
Шон Сэйерс утверждает, что идеал коммунизма у Маркса носит онтологический характер. Он основан на представлении о человеке как об универсальном существе, наделенном безграничными способностями. Капитализм подавляет эти способности, но коммунизм призван их освободить. Центральным понятием становится «богатство человеческих потребностей», которое заменяет буржуазное понятие богатства как накопления вещей. Развитие потребностей и способностей и есть истинное богатство. Сэйерс подчеркивает, что коммунизм для Маркса — это не только теория исторического развития, но и идеал, вдохновляющий социалистическое движение.
Пареш Чаттопадхьяй рассматривает коммунизм как «воссоединение человечества» и фокусируется на положении трудящегося индивида в «ассоциированном способе производства». Он выделяет три стадии развития индивида в обществе: личная зависимость (докапиталистические формации), личная независимость при вещной зависимости (капитализм) и, наконец, «свободная индивидуальность» при коммунизме, где преодолены обе формы зависимости. Для него коммунизм — это общество, где каждый человек может стать «всесторонне развитой», «целостной» личностью.
Бертелл Оллман критикует утопический подход к изучению коммунизма, который отрывает видение будущего от анализа настоящего. Вместо того чтобы рисовать идеальные картины, Оллман призывает искать «ростки» коммунизма внутри самого капитализма. К таким «росткам» он относит кооперативы, профсоюзы, общественное образование, а также внутренние тенденции капитализма к обобществлению производства (например, через акционерные общества и банковскую систему). Этот диалектический подход позволяет увидеть коммунизм не как далекую мечту, а как реальную возможность, вырастающую из противоречий современности.
Майкл Лебовиц предлагает оригинальную трактовку «Критики Готской программы» Маркса. Он отвергает идею жесткого разделения на две стадии («социализм» и «коммунизм»). По его мнению, новое общество, рождаясь из капитализма, неизбежно несет на себе его «родимые пятна». Одним из главных таких «дефектов» является сохранение частной собственности на рабочую силу, что порождает принцип «каждому по труду» как обмен эквивалентов. Этот принцип, по Лебовицу, — буржуазный по своей сути и ведет к неравенству и отчуждению, так как рассматривает человека лишь как «работника», а не как всесторонне развивающуюся личность. Настоящий переход к коммунизму требует сознательной борьбы за преодоление этих «дефектов» и утверждение солидарности и коллективности, что было невозможно в «реальном социализме» XX века.
Сильвия Федеричи с феминистской точки зрения критикует Маркса за его веру в прогрессивность капитализма как необходимой стадии на пути к коммунизму. Она утверждает, что Маркс недооценил разрушительную силу капитализма, который уничтожил докапиталистические общинные (commons) отношения и построил свое могущество на их присвоении. Особое внимание она уделяет неоплачиваемому репродуктивному труду женщин (домашняя работа, уход за детьми), который Маркс практически полностью игнорировал, но который является фундаментальной основой для воспроизводства рабочей силы и, следовательно, для капиталистического накопления. Для Федеричи путь к коммунизму лежит не через дальнейшее развитие промышленного капитализма, а через борьбу за восстановление и создание новых «общин» (commons), основанных на кооперации и солидарности.
Другие авторы тома исследуют космополитические, утопические, экологические и романтические аспекты учения Маркса. Пол Бёркетт показывает, что видение Маркса можно интерпретировать как концепцию устойчивого человеческого развития, где рациональное регулирование обмена веществ с природой является ключевой задачей ассоциированных производителей. Роджер Пэйден утверждает, что Маркс не был противником утопизма как такового, а лишь критиковал его статичные, неисторические формы; сам же Маркс, по сути, предлагал «развивающуюся утопию». Майкл Леви раскрывает романтические корни критики капитализма у Маркса и Энгельса, их ностальгию по докапиталистическим формам общности и качественным человеческим отношениям, уничтоженным «ледяной водой эгоистического расчета».
Том 2: «Куда движется коммунизм? Вызовы прошлого и настоящего»
Второй том переходит от теории к анализу исторической практики и современных реалий коммунистических движений и государств. Он начинается с исследования фундаментальных расколов в левом движении.
Роберт Грэм анализирует исторические дебаты между марксизмом и анархизмом, в частности, полемику Маркса с Прудоном и Бакуниным. Он показывает, что, несмотря на общее стремление к безгосударственному обществу, их пути расходились в вопросах о роли государства в переходный период, о централизации, о политической партии и о роли исторического материализма. Анархисты опасались, что любая «диктатура пролетариата» неизбежно превратится в диктатуру над пролетариатом, и выступали за немедленное создание федерации свободных самоуправляющихся общин.
Пол Блэкледж исследует причины краха Второго Интернационала в 1914 году, когда большинство социал-демократических партий поддержали свои правительства в Первой мировой войне. Он связывает этот «великий раскол» с ростом оппортунизма и реформизма внутри партий, которые отказались от революционной практики в пользу парламентской борьбы и интеграции в капиталистическое государство. Ленин, по мнению Блэкледжа, предложил выход из этого тупика через обновление революционной теории и практики.
Далее в томе представлены страновые исследования. Кэтрин Самари анализирует процесс капиталистической реставрации в Восточной Европе после 1989 года. Она показывает, что это была не столько «демократическая революция», сколько «рефолюция» (реформа + революция), в ходе которой бывшая партийная номенклатура превратилась в новый класс капиталистов, а население лишилось многих социальных гарантий (право на труд, доступное жилье, здравоохранение), которые, несмотря на все недостатки, предоставлял «реальный социализм».
Александр Вувинг рассматривает подъем Китая как новой сверхдержавы. Он утверждает, что китайский «коммунизм» — это, по сути, инструмент для достижения националистической цели: восстановления величия Китая. Успех Китая основан на модели сверхвысоких инвестиций и сверхнизкого потребления, а также на перекачке дешевой рабочей силы из деревни. Однако эта модель, по его мнению, неустойчива и несет в себе семена будущего коллапса из-за демографических ограничений, растущего неравенства и накопления «плохих долгов».
Брюс Камингс анализирует феномен долговечности Северной Кореи. Он утверждает, что КНДР выжила именно потому, что фундаментально отошла от марксизма-ленинизма, создав уникальную систему, сочетающую социалистический корпоративизм, неоконфуцианскую философию (чучхе) и современную форму династической монархии. Эта система, основанная на культе семьи Кимов и антиимпериалистическом национализме, оказалась гораздо более устойчивой, чем предсказывали западные аналитики.
Тхавипорн Васавакул исследует трансформации вьетнамского социализма в рамках политики Дой Мой (обновление). Она показывает, как Вьетнам перешел от централизованного планирования к «социалистически-ориентированной рыночной экономике», что привело к росту сильной исполнительной власти, но также и к расширению «демократического пространства» через усиление роли выборных органов и прямого участия граждан на местах.
Бруно Бостилс прослеживает историю «мексиканской коммуны» — повторяющегося в истории Мексики идеала местного самоуправления, от крестьянских восстаний XIX века до движения сапатистов в Чьяпасе в 1994 году и восстания в Оахаке в 2006 году. Он видит в этом постоянное напряжение между марксистско-ленинской моделью, ориентированной на захват государственной власти, и автохтонной, анархистской традицией, основанной на общинных корнях.
Сандра Рейн задается вопросом о будущем Кубы после Кастро. Она анализирует основы кубинской революции, построенной на уникальном сочетании национализма, социалистической conciencia (сознательности) и сильной роли армии. Она рассматривает три сценария: управляемый переход, форсированный коллапс и, наконец, «самый революционный момент» — возможность того, что кубинский народ сможет заставить революцию выполнить свои первоначальные обещания и создать подлинно социалистическое общество.
Дарио Аззеллини и Дэвид Кэмфилд завершают том анализом современных движений. Аззеллини подробно описывает эксперименты в Венесуэле по построению «коммунального государства» через создание коммунальных советов, коммун и коммунальных городов, которые должны постепенно заменить буржуазное государство. Кэмфилд дает трезвый обзор состояния радикальных рабочих социалистических партий в мире, отмечая их относительную слабость и маргинальность, несмотря на кризис капитализма.
Том 3: «Будущее коммунизма: социальные движения, экономические кризисы и новое воображение коммунизма»
Третий том обращен к будущему и исследует, как коммунистические идеи и практики проявляются в современных условиях.
Массимо Де Анджелис утверждает, что нынешний кризис капитализма — это кризис социальной стабильности. Он выделяет четыре возможных «плана» развития: (A) неолиберализм-плюс, (B) кейнсианство-плюс, (E&F) исключение и фашизм, и (C&D) «общины и демократия» (Commons and Democracy). Последний план, который он поддерживает, представляет собой коммунистическую альтернативу, основанную на расширении практик «общинного» (commoning) и горизонтального самоуправления.
Тейво Тейвайнен анализирует Всемирный социальный форум (ВСФ) как пространство для создания посткапиталистических альтернатив. Он предпочитает термин «коммонизм» (commonism), чтобы отделить эти устремления от наследия государственного социализма. Он исследует бразильские корни ВСФ, его принципы «открытого пространства» и отказ от авангардизма.
Джоди Дин исследует феномен «коммуникативного капитализма», где демократические идеалы участия и доступа реализуются через сетевые медиа, которые одновременно создают новые формы коллективности («общее», the common) и новые механизмы эксплуатации и экспроприации (данные, метаданные, внимание). Задача коммунистов — использовать внутренние противоречия этого «цифрового общего» для политической борьбы.
Нина Пауэр возвращается к «несчастливому браку» марксизма и феминизма. Она показывает, как феминистская теория расширила марксистский анализ, включив в него вопросы репродуктивного труда и ухода (care work), но также предупреждает об опасности кооптации феминизма капитализмом и империализмом, которые используют риторику «освобождения женщин» в своих целях.
Вернер Бонефельд, опираясь на «Тезисы о понятии истории» Вальтера Беньямина, представляет концепцию революции, свойственную критической теории. Революция здесь — это не движение к предопределенному будущему, а «применение стоп-крана» к поезду истории, который несется к катастрофе. Коммунизм — это не следующая стадия прогресса, а разрыв с самой логикой прогресса, которая в классовом обществе всегда была прогрессом варварства.
Последние главы тома посвящены вопросам организации и практики. Родриго Нуньес и Кейр Милберн анализируют опыт движений 2011 года (Occupy, Indignados). Нуньес призывает к переосмыслению фигуры «боевика» (militant), предлагая неавангардистскую модель «распределенного лидерства». Милберн критикует «ассамблеизм» — фетишизацию общих собраний — и указывает на необходимость процессуального, гибкого подхода к организации, который допускает моменты разрыва и перестройки.
Джон Холлоуэй завершает всю серию главой под названием «Коммунизировать» (Communize). Он утверждает, что коммунизм не может быть существительным, обозначающим некое застывшее состояние. Это должен быть глагол — коммунизировать — постоянный процесс борьбы против всех форм отчуждения и вещных отношений, движение по освобождению нашего «делания» (doing) от власти «сделанного» (done). Мы, утверждает он, и есть кризис капитала, и наша задача — распознавать, создавать и умножать практики «коммунизирования» здесь и сейчас.
Заключительные выводы серии
В целом, трехтомник «Коммунизм в XXI веке» представляет собой панораму современного неортодоксального марксистского мышления. Главный вывод, который можно сделать из всего сборника, — это фундаментальный сдвиг в понимании коммунистической политики. Происходит решительный отход от фокуса на захвате государственной власти, централизованном планировании и экономическом детерминизме. На смену приходит «политика реляционности» — акцент на создании новых социальных отношений, основанных на кооперации, солидарности и прямой демократии. Ключевыми понятиями становятся «общее» (the common), «общинное» (commoning), самоуправление и всестороннее развитие личности.
Коммунизм XXI века, каким его видят авторы сборника, — это не проект будущего, а практика настоящего. Это не модель, которую нужно навязать сверху, а процесс, который вырастает снизу из борьбы людей за контроль над своей жизнью. Это не столько пересмотр Маркса, сколько возвращение к его гуманистическому ядру, которое было трагически утеряно в эпоху «реального социализма».