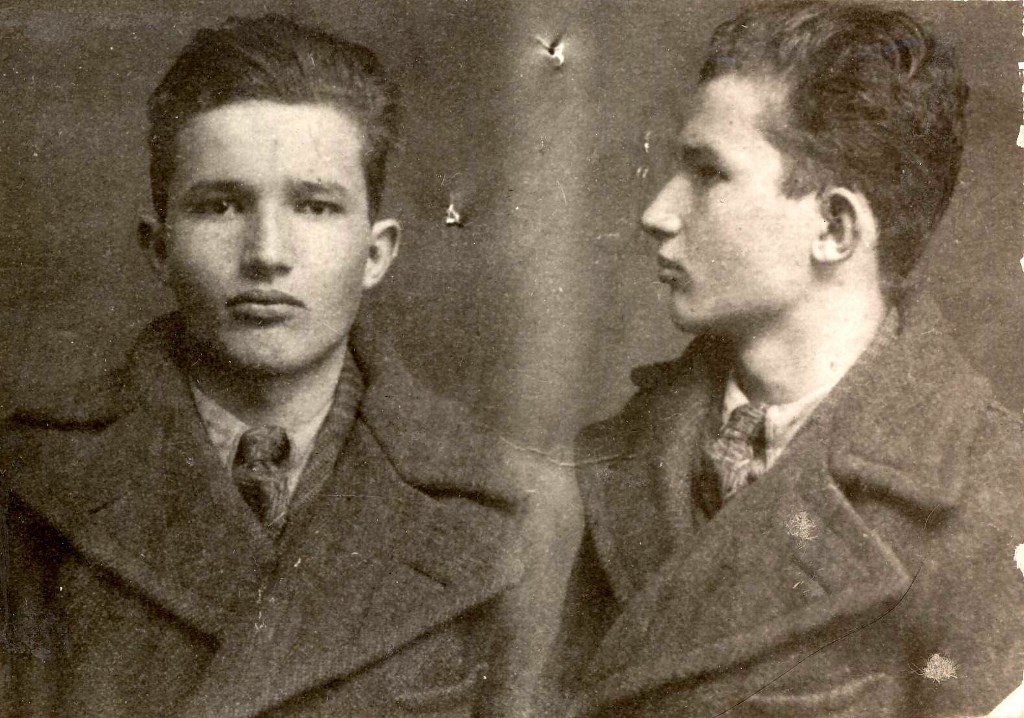В 1992 году в либеральном журнале “Иностранная литература” были опубликованы главы из книги Эдварда Бэра про Чаушеску. Текст заслуживает внимания, при том что воспринимать его нужно очень осторожно.
Эдвард Бэр (Edward Behr) — британский журналист, военный корреспондент и писатель, известный своими биографиями, книгами по международной политике и мемуарами. Он родился в 1926 году и умер в 2007 году. В своей карьере он работал для таких изданий, как Newsweek, Time и Le Figaro, освещая события в разных точках мира, включая Вьетнам, Китай, Африку и Восточную Европу.
Одна из его известных книг — “Kiss the Hand You Cannot Bite: The Rise and Fall of the Ceausescus” (в переводе на русский — «Целуй руку, которую не можешь укусить»), посвящённая Николае и Елене Чаушеску. В ней Бэр исследует путь румынского диктатора к власти, механизм культа личности, коррупцию и жестокость режима, а также его крах в декабре 1989 года.
Перевод с английского И. Прохоровой
Вступительная статья Н. Морозова
Взлет и падение Гения Карпат
«Долой сапожника! Долой сапожника!» — ревела многотысячная толпа на площади между королевским дворцом и зданием ЦК РКП в Бухаресте. Еще несколько минут — ив главном штабе румынских коммунистов зазвенели разбитые стекла, тяжелые кованые двери распахнулись, и поток людей хлынул внутрь. Человеческие фигуры замелькали в окнах, высыпали на балкон, с которого еще вчера диктатор угрожал «хулиганам Тимишоары» всевозможными карами. В этот момент с крыши левого крыла здания послышался нарастающий гул, в воздух поднялся вертолет и, сделав крутой вираж над одной из боковых улиц, скрылся из виду. Шло 22 декабря 1989 года, и мало кто из находившихся тогда на площади людей, включая и меня самого, мог предполагать, что в эти секунды завершилась более чем полувековая политическая карьера Николае Чаушеску.
Безраздельно и самодержавно правивший 20-миллионным государством диктатор был вынужден спасаться от народного гнева на попутных автомашинах, просить о помощи случайных прохожих — бесславный и странный конец. Петлявший, как заяц, по проселочным дорогам Румынии, арестованный обыкновенным милиционером и расстрелянный у кафельной стены солдатской уборной, Чаушеску закончил свои дни, казалось бы, в полном соответствии с известной сентенцией: «Высота падения равна низости возвышения».
Впрочем, о последних перипетиях покинутого всеми румынского диктатора читатель узнает из книги ветерана американской журналистики Эдварда Бэра. Работавший военным корреспондентом в Алжире, Бейруте, Конго и Вьетнаме, он известен, главным образом, работами в популярном на Западе историко-документальном жанре. Э. Бэр участвовал в создании трехсерийного фильма «Красная династия» о трагическом пути китайского коммунизма, который был широко показан в США и Великобритании. Его книга «Хирохито» в «Нью-Йорк тайме» была названа «одной из самых значительных книг года», а «Последний император» стал бестселлером — получил премию Гутенберга в 1988 году и послужил основой для известного фильма Бертолуччи. В настоящее время Э. Бэр живет в Париже, он — редактор по проблемам европейской культуры журнала «Ньюсуик».
Следует указать, что в журнальном варианте книги Э. Бэра выпущена часть, в которой он рассказывает об историческом пути румынского народа, а также о карьере Чаушеску до чехословацких событий 1968 года.
Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы по возможности дополнить книгу Э. Бэра некоторыми сведениями для советского читателя и поделиться соображениями, навеянными драматическими событиями, очевидцем которых мне довелось стать.
Возможно, некоторого пояснения требует название книги — «Целуй руку, которую не можешь укусить». Именно безразличие румын позволило культу личности Чаушеску достичь столь гротескных масштабов. И здесь мы неизбежно приходим к щекотливому и, как правило, неблагодарному вопросу о сформированном историей национальном румынском характере. Э. Бэр пишет о «раболепии перед властью», «въевшейся традиции лицемерия», «укоренившейся привычке к коррупции». Даже если по сути он и прав, этому его суждению явно не хватает нюансов.
Стиснутая между тремя империями — оттоманской, австро-венгерской и царской — маленькая Румыния была страной, которая, по выражению летописца Григоре Уреке, «находилась по пути всех бед». Объективные условия вынуждали страну избегать лобовых столкновений с соседя ми-гигантами, гибко лавировать между ними, менять союзников в зависимости от меняющихся обстоятельств. Цель была достигнута: Румыния, в отличие, например, от многострадальной Польши, сохранила свою государственность. Платой за это, однако, стало «своеобразное» отношение румын к политике. Помню, в доверительной беседе один маститый румынский публицист снисходительно заметил мне: «Молодой человек, здесь, на Балканах, нет политики, а только политиканство!» Так или иначе, все эти соображения — лишь фон истории, который дает возможность для объяснения определенных реалий, но не может служить поводом для неуместных оценок или ярлыков.
Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в олтенском селе Ско-рничешти, где был одним из десяти детей крестьянина Андруцэ. Кстати, олтенцы пользуются в Румынии репутацией хитрых и пронырливых людей, способных околпачить кого угодно. Закончив начальную школу, он впервые приехал в столицу в 11 лет. Свой, как говорится, трудовой путь Чаушеску действительно начал подмастерьем сапожника. Еще несколько лет назад в районе Северного вокзала друзья украдкой показывали мне полутемный подвал, где подбивал каблуки мальчишка, которого газеты через несколько десятилетий станут называть «Гением Карпат».
Между тем Чаушеску вовсе не манили секреты слишком прозаического сапожного ремесла, и поэтому большую часть своего времени 15-летний член Союза коммунистической молодежи проводил на уличных демонстрациях, которые в предвоенный период буквально сотрясали страну. Впервые он был схвачен полицией в 1933 году, а затем аресты следовали один за другим. Чаушеску познакомился со всеми румынскими тюрьмами: Дофтана, Жилава, Карансебеш, Вэкэрешть,— которые и стали его «коммунистическими университетами».
Любопытно и поучительно сегодня сравнить посвященные Чаушеску агиографические тексты «золотой эпохи» и «разоблачительные» статьи послереволюционного периода. Разница между панегириком и памфлетом, к удивлению многих, оказалась не столь уж велика: пересмотру подлежали оценки, интерпретации, эпитеты, которыми наделялся бывший вождь, факты же в большинстве своем остались неизменными. Так, если автор одной из «официальных» биографий Чаушеску француз М.-П. Амле объясняет его поведение в юности «пламенным темпераментом революционера», то бывшие «коммунисты-подельщики», обильно делящиеся сейчас воспоминаниями на страницах газет,— дурным характером и непомерным тщеславием. Суть же остается прежней: Чаушеску твердо сделал свой выбор в ранней юности и последовательно продвигался по избранному пути всю жизнь. Естественно, моральными предрассудками будущий диктатор особенно себя не обременял — ну, а кто из коммунистов заботился о «чистоте рук»?
«Чаушеску постоянно находился во взвинченном, взбудораженном состоянии,— рассказывал, например, один из его бывших соратников М. Попеску.— То он ни с кем не разговаривал, то вдруг взрывался потоком ругательств». Многие отмечали отчаянное стремление Чаушеску любой ценой привлечь к себе внимание, быть замеченным. Ему удалось преодолеть врожденный дефект речи (позднее управление по дезинформации Секуритате распространяло слух, что шепелявость Чаушеску была результатом побоев в охранке, во время которых он будто бы прикусил язык). Мешала, однако, нехватка образования. Николае с трудом формулировал мысли, зато проявлял патетическое стремление «повысить идеологический уровень». «Чаушеску был ограниченным коммунистом-энтузиастом, который сам верил в проповедуемые им глупости,— утверждает Ш. Костял, которому довелось сидеть с Чаушеску в одной камере.— Это выглядело достаточно странно, и поэтому большинство заключенных избегали его».
В прошедшем по экранам в «золотую эпоху» румынском художественном кинофильме «Юность героя», как и в продолжившей киноэпопею «Освобождение» советской ленте «Солдаты свободы», Чаушеску показан бесспорным лидером коммунистов, хотя, в сущности, в тот период он лишь начинал входить в доверие к «баронам» партии. По свидетельству современников, в исторических трудах последнего времени чрезмерно преувеличена его роль на брашовском процессе коммунистов в 1936 году, а также в организации первомайской манифестации 1939 года.
Практически все военные годы будущий диктатор провел в тюрьме. Хотя срок истек 1 августа 1943 года, все политзаключенные были оставлены в «административном заключении» в лагере Тыргу-Жиу до окончания войны. Следует упомянуть, что там был не концлёгерь, как утверждается в румынской исторической литературе, а лагерь для беженцев и военнопленных. Причем режим пребывания в нем по мере того, как чаша весов на фронте постепенно склонялась на сторону союзников, становился все более либеральным. Заключенные трудились в небольших мастерских, где им полагалась и зарплата, а отдельные бригады даже откомандировывались на работы за пределы лагеря. Начальник нередко приглашал коммунистов в свой кабинет, чтобы они могли послушать радио, администрация даже организовывала им побеги. Иметь наготове «резервную команду» политиков с противоположными убеждениями — на случай резкого поворота событий — отвечало традициям румынской политики. Так было во время первой мировой войны, так было и во время второй: чем стремительнее продвигалась Советская Армия на запад, тем чаще Антонеску размышлял о возможности союза с компартией. В лагере коммунисты были сгруппированы в бараке № 8, где старостой был Г. Георгиу-Деж, который, впрочем, имел отдельное жилье. Вообще Деж — старейший заключенный-коммунист в Румынии — был весьма влиятельной фигурой в лагере. Утверждают, что Чаушеску исполнял при нем роль денщика или адъютанта, в частности, нередко совершал «вылазки» за колючую проволоку специально за любимым вином Дежа — красным «Сымбурешть». Так или иначе, но именно эта не вполне благовидная роль позволила Чаушеску войти в доверие к «первому коммунисту страны», приблизиться к кругу партийных «баронов» и впервые прикоснуться к реальной, находящейся «по ту сторону добра и зла» борьбе за власть.
Незадолго до дворцового переворота 23 августа 1944 года, который получил в «чаушистской» официальной историографии помпезное название «антифашистской и антиимпериалистической революции социального и национального освобождения», 26-летний Чаушеску вышел на свободу. Как-то листая подшивку «Скын-тейи» за тот год, я наткнулся на его выступление на митинге по случаю вступления в Бухарест частей советской армии. Помню, меня удивило, что уже в этом документе явственно просматривалось сдержанное отношение к СССР, мелькнуло слово «независимость»…
Здесь следует отметить, что румынская компартия в довоенный период была расколота на два крыла: «национальное» (Георге Георгиу-Деж, Георге Апостол, Лукрециу Пэтрэшкану) и «московское», состоявшее в основном из работников Коминтерна (Ана Паукер, Василе Лука, Иосиф Кишиневский). До 23 августа 1944 года’ вся РКП насчитывала менее тысячи членов, но известно, что сила партии измеряется не только количеством ее сторонников. Прибывшая в Румынию А. Паукер в те бурные дни выразила убежденность, что компартия вскоре станет правящей в стране, а в ответ на удивление собеседника заявила: «Во время отдыха советской армии в Румынии партия увеличит свои ряды на тысячи и десятки тысяч человек!» Она, по-видимому, знала, что говорила: уже к концу 1947 года РКП выросла до 803 831 человека. Понятно, что реальная власть в партийном руководстве принадлежала поначалу «московской» фракции, хотя из тактических соображений Сталин выдвинул на первый план «национал-коммуниста» Дежа, несмотря на то, что тот еще в 1944 году опубликовал брошюру «Румынская политика», одно название которой должно было в глазах Отца народов выглядеть подозрительно.
После войны Чаушеску с головой уходит в работу. Хотя он пока и остается на вторых ролях, но все же неуклонно взбирается к вершине пирамиды власти. Немедленно после выхода из лагеря он — генеральный секретарь СКМ; на национальной конференции РКП в октябре 1945 года его избирают в состав ЦК партии, а еще через год — депутатом парламента. С 1948 года он — заместитель министра сельского хозяйства, а с 1950 года — заместитель министра национальной обороны в чине генерал-лейтенанта, начальник высшего политического управления армии. Перед этим он закончил восьмимесячные курсы в Академии имени М. Фрунзе в Москве — факт, о котором авторы официальных биографий предпочитают не упоминать. Это, несомненно, объясняется неприязнью, которую Чаушеску всегда питал к СССР. Так, он категорически отказывался изучать русский язык, прибегая к услугам переводчика. Он же несколько лет спустя поставит многочисленных кадровых офицеров, имевших в свое время неосторожность обрести спутницу жизни в СССР, перед необходимостью выбора: развод или отставка. А генералу Костялу, оказавшемуся в таком положении, он заявил: «Чтобы целоваться и рожать детей, вполне достаточно и румынок!» Многочисленные свидетели отмечают, что из-за пробелов в образовании Чаушеску с трудом мог составить рутинный официальный рапорт. Он угодничал перед начальством, был надменен и груб с подчиненными. Читал он лишь «Скынтейю» и партийные пропагандистские брошюры.
Болезнь Сталина и развязанная им в 50-е годы антисемитская кампания способствовали падению престижа «коминтерновцев» в РКП. В 1952 году «фракционная группа» А. Паукер и В. Луки окончательно устранена с пути, а в июне этого же года сформирован новый секретариат ЦК РКП, где преобладали представители национального крыла. Впервые в эту партийную элиту вошел и Чаушеску. А в 1955 году он занял ключевой пост члена Политбюро, отвечающего за кадровые вопросы.
После смерти Сталина советско-румынские разногласия обостряются. В ходе «десталинизации» Хрущев пытается сменить лидеров в восточноевропейских странах-сателлитах. Деж принимает ответные меры: казнит единственного соперника— Л. Пэтрэшкану, навесив ему ярлык «агента империализма». На партийном съезде в 1955 году впервые открыто говорится о «румынском пути к социализму», но очевидно, что новоявленную независимость Румынии питало стремление Дежа удержаться у власти, а не защита национальных интересов. В 1964 году в советском журнале «Экономическая жизнь» была помещена статья некоего Валева, в которой излагался план создания «межгосударственного экономического комплекса в зоне нижнего Дуная». Эта сугубо академическая публикация дала румынскому руководству повод для резкой отповеди и последующего развязывания националистической кампании. Глубинную причину этого кризиса многие румынские историки сегодня усматривают в том, что после событий 1956 года, когда стало ясно, что опираться исключительно на Советскую Армию неблагоразумно, режим лихорадочно старался обрести социальную базу внутри страны. Из двух возможных путей — построение потребительского «гуляш-социализма» или утверждение безудержного национализма — румынские руководители выбирают второй. Своеобразным закреплением этого выбора становится знаменитая «Декларация о независимости», опубликованная в апреле 1964 года.
Таким образом, именно Деж, а вовсе не Чаушеску положил начало «особому курсу» Румынии, который превратил страну в enfant terrible Варшавского Договора. А в 1965 году Деж внезапно умирает, и начинается борьба за «кафтан» генсека. Поднаторевшие в политических интригах «бароны», которые схлестнулись у гроба Дежа, боялись друг друга и поэтому сошлись на безобидной, всех устраивавшей кандидатуре Чаушеску. Они рассчитывали, что он станет послушной марионеткой в их руках и рассматривали его назначение как временное. Но, как известно, временные решения — самые долговечные…
Чаушеску сполна использовал свой шанс. Либеральной политикой он привлек на свою сторону интеллигенцию, а национализмом — широкие массы населения. В 1967 году к нему переходит и пост председателя Государственного Совета. «Звездным часом» Чаушеску стала «пражская весна» 1968 года, когда, открыто осудив вооруженную интервенцию войск Варшавского Договора в Чехословакию, он обрел беспрецедентный авторитет, которым не замедлил воспользоваться для укрепления личной власти. Уже на X съезде РКП в 1969 году две трети Политбюро составляли лица, выдвинутые в высшие эшелоны власти самим Чаушеску, а позднее вступает в действие знаменитый принцип «ротации кадров», который позволял ему единолично формулировать состав руководящих органов страны.
Последнего соперника — И. Г. Маурера — он убрал с политической арены в 1974 году. Предметом спора были степень централизации управления, а также темпы и масштаб индустриализации. Столкнулись рациональная и амбициозная концепции дальнейшего развития страны, и победил, увы, экономический национализм. С державным скипетром в руке Чаушеску в марте того же года принимает присягу президента Румынии, и страна начинает стремительно погружаться в маразм культа личности. Еженедельно президент выступает на многотысячных митингах с речами, на руководителей всех звеньев обрушивается лавина «ценных указаний». Занятно, что тексты выступлений для Чаушеску, который, видимо — из кокетства, не желал носить очки, печатались на специальной машинке с большими буквами, которой, по слухам, пользовался Гитлер.
Вновь были введены продовольственные карточки, отмененные в 1954 году, и разработана «программа научного питания». В административном порядке были запрещены контакты с иностранцами и принят новый закон о переходе границы, подобный аналогичным законодательным актам в хонеккеровской ГДР. Обладателям пишущих машинок было вменено в обязанность регистрировать их в милиции, а администраторам ресторанов — снять с окон шторы. Археологи оповестили мир о находке в селе Скорничешти — там были раскопаны останки первого в Европе homo sapiens — australonthropus olteniensis. После нескольких неудачных попыток распустить Союз писателей был принят четырехлетний план развития литературы, при помощи которого Чаушеску, вероятно, надеялся набросить намордник на главную оппозиционную силу в стране. Интересно, что Чаушеску, страдавший, по-видимому, своеобразным комплексом, претендовал, чтобы его считали интеллектуалом: говорят, будто он даже «прошелся» собственным пером по государственному гимну Румынии, оставив в нем следы своего косноязычия…
Наряду со специально распускаемыми Секуритате слухами о Чаушеску таковые рождались и спонтанно. Так, рассказывали, что в юности Чаушеску был арестован «по уголовке», будто Деж «опускал» его в лагере Тыргу-Жиу, якобы в последние годы стареющий диктатор переливал себе кровь младенцев, содержавшихся в специальных яслях. Подобные «истории», рассчитанные на падких до ужасов обывателей, тем не менее создавали вокруг Чаушеску, который превращался в своего рода литературный персонаж, жутковато-гротескную ауру.
Культ личности носил классический клановый характер. Братья Чаушеску занимали достаточно высокие посты в ключевых секторах румынского общества: Илие возглавлял политическое управление армии в чине генерала и «баловался» историческими исследованиями, Ион был заместителем министра сельского хозяйства, Марин — торгпредом Румынии в Вене, Андруцэ — начальником школы Секуритате, Флоря — одним из ведущих журналистов «Скынтейи».
Любопытно, что жизненный путь Чаушеску не раз пересекался с судьбой его преемника на президентском посту — Иона Илиеску. Так, существует фотография 30-х годов, на которой будущий диктатор запечатлен в обществе заметного деятеля рабочего движения страны, отца нынешнего президента — Александру Илиеску. В 1939 г. коммунистический праздник, на котором, как гласит легенда, Елена Петреску (будущая супруга Чаушеску) была избрана «королевой труда», организовывался в рамках проводившейся РКП кампании за освобождение Ефтимие Илиеску — дяди сегодняшнего главы румынского государства.
Сам же Ион Илиеску появился на политической арене в конце 50-х годов в роли одного из лидеров Союза коммунистической молодежи. Э. Бэр пишет, что он отличался особой беспощадностью в охоте за «отпрысками контрреволюционной буржуазии» среди студенчества и быстрой карьерой в РКП обязан лично Н. Чаушеску. Сам же президент в многочисленных после декабря интервью неоднократно утверждал, что именно чересчур мягкие методы работы с молодежью навлекли на него обвинения в «интеллектуализме» и в конце концов привели к опале. После декабрьской революции оппозиционные газеты не раз публиковали архивные фотографии, изображавшие обоих государственных деятелей вместе, и на них трудно было заметить какие-либо признаки разногласий. Особенно популярно было фото, на котором Чаушеску и Илиеску с увлечением предаются игре в серсо.
Справедливости ради следует сказать, что о разногласиях между Илиеску и Чаушеску можно вести речь лишь после 1971 года, когда после поездки в КНР и КНДР генсек решил развернуть в Румынии «культурную мини-революцию». Тогда Илиеску и был отправлен в «ссылку» — первым секретарем тимишоарского укома РКП, затем — ясского. Следующее понижение — пост председателя Совета по водному хозяйству (Илиеску закончил Московский энергетический институт по специальности инженер-гидростроитель). И наконец — должность директора издательства технической литературы в Бухаресте, на которой он и встретил декабрь 1989-го.
Здесь уместно задержаться на одной специфической особенности румынской разновидности тоталитаризма: оппоненты Чаушеску — Трофин, Никулеску-Мизил, Илиеску — хотя и теряли позиции в партийной иерархии, но никогда не арестовывались, не допрашивались, не подвергались репрессиям.
В глазах Запада в последние годы Чаушеску был подлинным исчадием ада, кровожадным тираном, вампиром, сошедшим с киноленты о Дракуле. Между тем годы его правления характеризуются не столько жестокостью, сколько довольно мелочным коварством. Секуритате достаточно было массированно распустить слух о том, что все телефоны прослушиваются,— и у парализованных страхом местных диссидентов опускались руки. Именно из-за отсутствия сопротивления Чаушеску и пришел в последние годы к выводу, что ему все позволено,— «мамалыга не взрывается». Именно здесь первопричина тех испытаний, которые выпали на долю румынского народа в «золотую эпоху».
Говорят, будто в последние годы Чаушеску впал в паранойю. Но он не столько был безумным, сколько потерял контакт с реальностью, пал жертвой льстивой и отфильтрованной по приказу его жены информации. Уже из транслировавшихся по телевидению судебных процессов над офицерами Секуритате было видно, какое разложение царило даже в репрессивном аппарате. «Режим Чаушеску на последнем этапе был не жестоким, а смешным,— сказал мне видный румынский журналист Ион Кристою.— Он походил на Австро-Венгерскую империю, описанную Гашеком. Централизованное управление было доведено до абсурда, вплоть до того, что Чаушеску сам определял длину иголок, высоту зданий и формат журналов. Комиссия из десяти человек во главе с секретарем ЦК ежедневно до эфира просматривала всю телепрограмму, а потом этот несчастный секретарь не спал всю ночь, так как Елена Чаушеску могла устроить скандал из-за того, что некая певица вышла на сцену в платье с цветочками!»
И все же Чаушеску практически никогда не прибегал к насилию, если мог достигнуть цели иным способом —запугиванием, обманом, коррупцией. По крайней мере, до последних лет он придерживался мудрого правила: не создавать мучеников. С другой стороны — и бывшие соратники чувствовали себя как бы «в резерве», были заложниками собственных надежд на возвращение, а значит — оставались сообщниками диктатора. Такая форма контроля над обществом оказалась гораздо эффективнее, чем жестокость Дежа. «Несомненно, диктатор инстинктивно чувствовал, что эта двусмысленная форма репрессий больше отвечает национальному темпераменту»,— пишет Э. Бэр.
Помню, как в рождественский вечер 1989 года я сидел за праздничным столом у румынских друзей, и вдруг на телеэкране диктор патетически провозгласил: «Антихрист умер на Рождество!» Замелькали видеокадры, снятые во время суда над Чаушеску. Мы стали жадно вглядываться в экран, чтобы хотя бы по его поведению в последние минуты понять: каким был этот человек. И мы увидели полное самообладание, непреклонный характер, презрение к смерти. Чаушеску остается неоднозначной фигурой в румынской истории — одинаково далекой как от славословий «золотой эпохи», так и от последекабрьской брани в его адрес. Он — плоть от плоти своей эпохи и своего народа, и многие могут смотреться в него, как в зеркало. Недаром газета «Ромынул» не так давно опубликовала интервью с одним из военных, приведших приговор в исполнение, под красноречивым заголовком «Казнен человек или цивилизация?».
И сегодня тень Чаушеску витает над Румынией. Всего несколько месяцев прошло после казни — и стали проводиться демонстрации под его портретами. Выходят газеты, ведущие яростную кампанию за реабилитацию его имени. А на безымянной могиле на бухарестском кладбище Генча постоянно лежат живые цветы. Но главное: Румынию по-прежнему разъедает сотканная Чаушеску атмосфера всеобщего недоверия и страха. Поэтому, может быть, пока еще рано говорить о конце «эпохи Чаушеску»?
Конец
Подготовка к последнему публичному выступлению Николае Чаушеску велась в полном согласии с давно освященной традицией. Накануне вечером несколько тысяч «проверенных» рабочих были свезены на автобусах в Бухарест, где и провели ночь в заводских общежитиях и гостиницах под неусыпным надзором партии. Утром 21 декабря, пока толпа прибывала, две партийные шестерки, в чью обязанность входило воодушевлять собравшихся, привычно заклеймили «контрреволюционных подстрекателей», ответственных за все беды Румынии, и вновь подтвердили свою несокрушимую верность Кондукатору. Стоя на балконе здания ЦК, расположенного в центре Бухареста, Чаушеску, окруженный ощетинившейся армией микрофонов, начал свою речь. Она лилась под привычный аккомпанемент «стихийного» волнения масс — верноподданнических лозунгов «застрельщиков» и послушных, заученных аплодисментов, завершавших банальные, набившие за последние годы оскомину фразы о торжестве «научного социализма» и блестящих достижениях Румынии во всех мыслимых областях.
Так продолжалось минут восемь, и вдруг где-то в глубине 100-тысячной толпы началось волнение совсем иного рода: послышались святотатственные свист и шиканье, а затем скандирование «Ти-ми-шо-а-ра» (в Тимишоаре всего несколько дней назад антиправительственные манифестации закончились человеческими жертвами и беспорядками).
Румынское телевидение, благодаря неподвижно установленным в нескольких точках площади камерам, продолжало трансляцию митинга. Взорвалось несколько гранат со слезоточивым газом, и гневный ропот толпы неудержимо нарастал: раздались крики «Чаушеску, народ — это мы!», «Долой убийц!», «Румыния, – проснись!» и воодушевленное пение запрещенных довоенных патриотических песен. Все это телекамеры передали в эфир, они же зафиксировали и замешательство на балконе: запинающегося, сбитого с толку Чаушеску и его жену Елену, прошептавшую: «Пообещай им что-нибудь».
Явно обеспокоенный, Чаушеску прервал брань в адрес хулиганов и всенародно возвестил о повышении заработной платы, пенсий и денежных пособий малоимущим семьям, а также об увеличении студенческих стипендий «на 10 лей» (что по рыночному валютному курсу составляло тогда 2—3 американских цента). Шум и свист усилились, и Чаушеску, абсолютно не готовый к подобному поведению толпы, вообще замолчал.
В телекамерах отразился его озадаченный, затравленный взгляд. Телезрители увидели, как плотный человек в военной форме подошел к Чаушеску, взял его под руку и увел с балкона. Непостижимым образом, именно в этот самый момент экраны погасли, когда же, три минуты спустя, они заработали снова, перед зданием ЦК уже бушевал кромешный ад.
Новости о случившемся мгновенно разлетелись по всему Бухаресту, и тысячи людей высыпали на улицы города. «Мы стазу поняли, что это конец,— рассказывала музейная работница Михаэла Филип, смотревшая последнее выступление Чаушеску по телевидению.— Весь город был охвачен волнением». Манифестации продолжались всю ночь, и тогда же снайперы из Секуритате принялись стрелять в людей без разбору. В ту ночь в бухарестские больницы поступило 85 человек с огнестрельными ранениями, убитых было еще больше. Как и в Тимишоаре, молва преувеличила количество жертв в десять, в двадцать, в сотню раз. Невзирая на стрельбу, людские толпы скопились вокруг партийных зданий, на Университетской площади (между старым зданием университета и гостиницей «Интерконтиненталь») и перед румынским телецентром, расположенным в тихом предместье Бухареста. Стрельба продолжалась всю ночь, но определить, кто виновник — убийцы из Секуритате или им вторят также и армейские подразделения,— было совершенно невозможно. Царила полнейшая неразбериха, усугубляемая еще и тем, что некоторые части тайной полиции носили военную форму. Ходили упорные слухи, что Чаушеску бросил в бой десантно-диверсионный отряд, укомплектованный арабами, проходившими под руководством Секуритате «военно-террористическую» подготовку в Румынии. Слух этот так и не подтвердился, но он отражал типично атавистический рефлекс: ну конечно же, снайперы, убивающие без разбору людей на улицах, не могут быть румынами…
Тогда еще мало кто знал, что основная масса и без того колеблющихся румынских вооруженных сил (за исключением лишь некоторых подразделений Секуритате) перешла в ту ночь на сторону демонстрантов. Этому предшествовали следующие события: 16 декабря, после нескольких недель крайней напряженности, в Тимишоаре вспыхнули яростные антиправительственные демонстрации. На следующий день (17 декабря) Чаушеску обвинил министра обороны Василе Милю в неповиновении и пригрозил ему отставкой в случае, если он не отдаст румынским войскам приказ стрелять в народ. Генерал вроде бы подчинился, но, как оказалось, только в присутствии Чаушеску. Он не издал приказа — и к вечеру 21 декабря… был обнаружен мертвым; официальная версия назвала это «самоубийством», неофициальная — расправой, санкционированной Чаушеску. Даже спустя месяцы подлинные обстоятельства его смерти оставались невыясненными. Несомненно было только одно — смерть Мили заставила высший командный состав всех трех родов войск осознать (если они еще не сделали этого), что отныне Чаушеску — битая карта. Глава Секуритате, генерал Юлиан Влад, по-видимому, уже пришел к подобному заключению. Утром 22 декабря, т. е. на следующий день после злополучного выступления Чаушеску, солдат, взобравшись на танк, стоявший на Университетской площади, демонстративно отстегнул магазин от автомата и помахал ими толпе. С этого момента по всей Румынии пронесся новый клич: «Армия — с нами».
В то утро людская толпа все еще заполняла площадь у здания ЦК, и, что уже совершенно непостижимо, муж и жена Чаушеску все еще находились внутри здания. Они провели здесь ночь, обсуждая ситуацию со своим штабом. Дворня оставалась здесь же. Как рассказывал позднее один из членов свиты, каждый следил за каждым; если бы кто-нибудь ушел, его бы сразу записали в предатели. Ни генерал Влад, ни другие ренегаты ни малейшим намеком не выдали, что уже списали Чаушеску со счетов. Давно поднаторевшему в искусстве подхалимажа Владу не стоило большого труда скрывать свои подлинные чувства. По правде говоря, «засветиться» на том, что он считает положение Чаушеску безнадежным, действительно было слишком рискованно, поскольку многие из приближенных Кондукатора все еще не осознавали масштабов происходящего. Во всяком случае, им были хорошо известны маниакальная забота вождя о личной безопасности и колоссальные меры предосторожности, принятые для того, чтобы ничто не могло застать его врасплох. Для защиты Чаушеску были созданы подразделение войск специального назначения («команда Альфа») и отборные части из сверхсрочников. Как вскоре стало известно мировой общественности, разветвленная сеть подземных туннелей (некоторые из них представляли собой модифицированную канализационную систему) соединяла резиденцию Чаушеску с партийными канцеляриями, оснащенными пультами связи, спальнями и бункерами. Супруги вполне могли воспользоваться этой подземной системой кроличьих ходов и благополучно покинуть Бухарест. Почему они так долго оставались в здании ЦК, не предпринимая попыток к бегству, и почему они в итоге предпочли бежать вертолетом и практически без охраны, хотя 80 отборных солдат, спрятанных в подвалах их постоянной бухарестской резиденции — Весеннего дворца — были приведены в состояние боевой готовности, остается загадкой, объяснить которую могли бы только сами Николае и Елена.
22 декабря, в 11 часов 28 минут, над Бухарестом закружили первые вертолеты, и один из них завис над зданием ЦК, опустившись затем на крышу. Вертолеты, решили внизу демонстранты, принадлежат Секуритате и сейчас откроют огонь. В толпе возникла паника, некоторые из митингующих стали убегать по боковым улицам, зато другие, воодушевленные пассивностью армии, которая в своем большинстве явно симпатизировала восставшим, бросились на штурм здания ЦК.
Севший на крышу вертолет не принадлежал Секуритате. Командир экипажа, личный пилот Чаушеску с 1980 года подполковник Василе Малу-цан, 15 минут назад получил приказ доставить супругов в безопасное место. «Мне было приказано опуститься на крышу ЦК и ждать,— рассказывал потом Малуцан.— Первоначально предполагалось послать четыре вертолета, три из которых были зарезервированы для вывоза правительства. Пятый уже был в воздухе и разбрасывал над толпой листовки, призывающие не поддаваться на «империалистические провокации». Приказ, данный трем вертолетам, был затем отменен, и я тоже подумывал о том, чтобы как-нибудь тихонько улететь с крыши ЦК, не беря никого на борт. Но я заметил на близлежащих крышах снайперов из Секуритате и боялся, что они меня подстрелят, если увидят, что я улетаю пустым.
Я запросил базу: «Мне оставаться здесь?» Там ответили: «Да. Оставайся и жди». На крыше хватало места только двум вертолетам. Я спросил дежурящего на крыше охранника из Секуритате: «Почему они не идут?» Он ответил, что демонстранты ворвались в здание (что было правдой) и ведут переговоры с президентом (что было ложью)». Вероятно, ложь была непреднамеренной, скорее всего, это было предположение самого охранника или сведения, переданные ему по рации. Малуцан прекрасно понимал, что делается внизу, на площади, ибо находился на радиосвязи с военно-воздушной базой, откуда к нему поступала краткая информация о событиях, о которых большинство румын узнавало непосредственно по ТВ (румынское телевидение к этому времени опять работало и с завидным бесстрашием комментировало происходящее).
Николае и Елена совершили роковую ошибку, решив бежать не через подземный туннель, а с помощью вертолета. Очевидно, сам факт проникновения демонстрантов в цековское здание невольно подтолкнул их идти вверх, а не вниз, хотя специальный лифт мог в любой момент доставить их к подземному ходу. Сотни миллионов долларов были припрятаны в швейцарских банках, и по меньшей мере три страны — Иран, Китай и Албания — с радостью предоставили бы им убежище. Но из-за замешательства и паники, охвативших их утром 22 декабря, когда толпа ринулась на штурм здания (большинство мятежников даже не подозревало, что оба Чаушеску все еще были там), все хитроумные планы пошли прахом. Надо сказать, личный пилот — Малуцан — тоже приложил к этому руку.
По пути на крышу случилось дурное предзнаменование: лифт, достигнув последнего этажа, не открывался; в конце концов одному из охранников пришлось силой вышибать двери. Задыхающиеся, измученные и совершенно растерянные, бросились Николае и Елена на крышу в сопровождении двух телохранителей и двух самых верных приспешников: Мани Мэнеску (заместителя премьер-министра и одного из зятьев Чаушеску) и Эмиля Бобу (секретаря ЦК). Почти по пятам за ними (скорее почувствовал, нежели увидел Малуцан) уже шли первые демонстранты, ворвавшиеся в здание. «Вас слишком много»,— сказал Малуцан, но охваченные паникой люди не обратили на его слова никакого внимания. В этой ситуации доказывать, что вертолет с шестью пассажирами на борту и с полным заправочным баком сильно перегружен, было бессмысленно, и Малуцан взлетел, едва-едва оторвавшись от крыши. «Если бы мы были на земле,— сказал он,— не думаю, что мы смогли бы подняться». Как бы то ни было, вертолет нырнул, но удержался в воздухе и, медленно набрав нужную высоту, уходил от центра Бухареста. Позднее, прослушав «черный ящик», Малуцан понял, что он провел на крыше всего 24 минуты, «хотя казалось, что гораздо дольше».
Поднявшись в воздух, пилот повернулся к пассажирам и сквозь рев мотора прокричал: «Куда?» «Они не знали»,— вспоминал он. Николае и Елена устроили «бурное обсуждение». Затем Чаушеску прокричал: «В* Снагов» (в этом городе, расположенном в 40 км к северо-востоку от Бухареста, находился один из многочисленных дворцов Чаушеску). Он также добавил: «Постарайся связаться со штаб-квартирой военного округа «Олтения». Малуцан попытался сделать это, но, как он объяснил, «связь с округом осуществлялась через центр связи Секуритате, а там никто не отвечал. Позже я узнал, что они все разбежались».
Через несколько минут вертолет (французского производства) приземлился на лужайке в Снагове. Все шесть пассажиров вышли, и Чаушеску приказал пилоту следовать за ним, добавив: «Не смей ни с кем разговаривать, кроме меня». Остальные два члена экипажа остались в кабине вертолета.
Оказавшись во дворце, Чаушеску сразу же бросился звонить по «вертушке», напрямую соединявшей с ключевыми военными и правительственными объектами, а также с главными подразделениями тайной полиции. Но связь не работала, и ему пришлось воспользоваться обычным городским телефоном. «Я хочу поговорить с командующим военно-воздушными силами,— сказал Малуцану Чаушеску.— Не говори, где мы. Я хочу, чтобы он с нами встретился где-нибудь, взяв с собой два вертолета с вооруженной охраной на борту». Малуцан выяснил, что генерал авиации дома, и позвонил ему туда. Вначале генерал был готов надеть форму и немедленно явиться на базу, но когда в разговоре обнаружились некоторые подробности отлета Чаушеску, он изменил свое решение. «Сейчас не совсем подходящее время посылать охрану,— сказал он.— Передайте командующему вашей части, чтобы он сам занялся этим делом». И генерал повесил трубку. Было ясно, что авиация окончательно списала Чаушеску со счетов, но на данном этапе не хотела дальнейшего вмешательства в конфликт и просто переложила ответственность на чужие плечи.
Малуцан позвонил командиру своей базы. «Все вертолеты на земле и взлетать сегодня не будут,— ответил ему командир.— Вы должны рассчитывать только на свои силы». (Следует сказать, что хотя Малуцан в телефонных разговорах честно выполнял просьбу Чаушеску не называть их местонахождения, на самом деле в этом не было особой нужды: когда вертолет еще был в воздухе, Малуцан сообщил на базу, что он
направляется в Снагов.) Один из сопровождавших Чаушеску охранников тоже вступил в игру. «Попроси их прислать второй вертолет»,— сказал он.
К этому моменту вновь заработал президентский телефон, и Чаушеску принялся названивать во все концы. Малуцан слышал, как он разговаривал то с одним областным секретарем, то с другим, и так по всем городам и весям Румынии. «Он без конца задавал одни и те же вопросы,— вспоминал пилот.— Какова обстановка в районе? Все ли спокойно? Как ведут себя люди? Были ли демонстрации?» Малуцан также слышал, как Чаушеску разговаривал с чиновником, посланным на подавление волнений в Тимишоаре; похоже, что Кондукатор намеревался произнести перед ним ту самую речь, которую ему накануне не удалось завершить с балкона ЦК. «Мы обязаны сохранить нашу территориальную целостность,— беспрестанно повторял он.— У нас достаточно партийных активистов и преданных рабочих, готовых служить Делу еще сотню лет». Внезапно он повернулся к Малуцану и спросил: «Ты служишь нашему общему Делу?» «Я не знал, что ответить,— рассказывал пилот.— Я растерялся и ничего не сказал». В конце концов он сам задал вопрос, правда, более практического свойства: «Что вы намерены делать?» Как он признался позднее: «Я не хотел, чтобы этот полет стал для меня последним».
По правде говоря, Малуцан уже придумал, как улизнуть от Чаушеску и его команды,— он настаивал на необходимости сменить вертолет. Из-за чудовищной перегрузки машины во время полета с крыши ЦК, уверял он Николае, он не может больше гарантировать безопасность президента. Почему бы не отправить вертолет на базу, с тем чтобы он, Малуцан, потом вернулся с более надежной машиной? Разумеется, он вовсе и не думал возвращаться.
«Я почти убедил Николае,— рассказывал Малуцан,— но Елена была более решительной и здравомыслящей. «Если ты улетишь и оставишь нас,— произнесла она,— мы погибли. С кем же мы останемся?» Малуцан понял, что его план провалился, но он был полон решимости не выпускать инициативу из рук. «Хорошо,— сказал он.— Мы полетим, но всех я не возьму. Куда вы направляетесь?» Чаушеску сказал, что они хотят добраться до военного аэродрома Ботени, расположенного в 30 км северо-западнее Бухареста. «Я подготовлю экипаж»,— сказал Малуцан и пошел к вертолету.
«Я хотел подбодрить ребят: «Я сделаю все возможное, чтобы нам выбраться отсюда целыми и невредимыми». Я приказал включить двигатели. «Если они хоть чуть-чуть замешкаются,— сказал я своей команде,— мы улетим без них, и пусть охранники стреляют, сколько захотят». Но как только те услышали шум заводящегося мотора, они мгновенно высыпали из дворца и бросились к вертолету. Здесь было решено оставить Бобу и Мэнеску. Они попрощались с Чау^иеску в вертолете и спустились на землю; Мэнеску, по словам Малуцана, целовал Николае руки.
«Я не собирался лететь в Ботени,— рассказывал Малуцан.— Вертолет все равно был слишком перегружен; я рассчитывал вернуться на свою военно-воздушную базу. Было около часа дня. Радист базы посоветовал мне включить радио, и по радио я услышал, что румынское ТВ захвачено демонстрантами, что чета Чаушеску бежала и что армия братается с толпой. Сейчас, как никогда прежде, я хотел избавиться от Чаушеску». Он заметил, что Николае яростно спорит с Еленой. Под рев мотора он вновь спросил Малуцана: «Ты служишь нашему Делу?», и вновь Малуцан ответил вопросом на вопрос: «Куда вас доставить? Вы действительно хотите лететь в Ботени?»
Чаушеску опять передумал. После разговора с районными секретарями он, наконец, понял, что его единственный шанс на спасение — это попасть в тот регион, где еще не вспыхнул мятеж. Он приказал Малуцану: «Направляйся в Питешти» (город, находящийся в 115 км северо-западнее Бухареста). «Я соединил его с Питешти,— вспоминал пилот,— и из его разговора стало ясно, что там все тихо». «Никому не сообщай, куда мы летим»,— прокричал Николае сквозь треск вертолета.
К этому времени Малуцан решил бесповоротно избавиться от Чаушеску даже под угрозой известного риска. Он поднялся на большую высоту («чтобы нас засекли радары») и сделал резкий вираж, намереваясь привезти всю компанию на свою военную базу. Но один из телохранителей заметил маневр и подошел к нему сзади со словами: «Василе, ты что тут затеваешь?» Я ответил: «Давай лучше вернемся домой, я знаю дорогу домой». Но охранник сказал: «Ты должен выполнять приказы президента». Я вернулся на прежний курс, лихорадочно соображая, что делать, и, наконец, пошел ва-банк. Я прокричал Чаушеску: «Нас засекли радары, нас могут сбить в любую минуту». Он ужасно испугался и сказал: «Тогда нужно спускаться». Мы были уже вблизи военного аэродрома. Я спросил: «Вы хотите лететь в Ботени?» Он ответил: «Нет. Приземляйся здесь, около дороги». Мы летели почти над главной автострадой, город Титу был всего в четырех километрах отсюда. Я посадил вертолет в поле, очень близко от края дороги. Один из охранников с автоматом под кителем вышел на трассу, чтобы остановить машину. Чаушеску подозвал меня. Я вышел из рубки. Он опять спросил меня: «Ты служишь нашему Делу?», а я опять ответил: «Какому делу? Чьему делу?» Он протянул руку, и я пожал ее. Мы распрощались. Елена не проронила ни слова; я видел, что она испугана, но в то же время полна ярости. Я знал, что она ненавидит и презирает меня. Ее телохранитель повернулся ко мне и тихо сказал: «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе еще придется ответить за свои действия?» «Каждому придется ответить»,— сказал я. Он запросто мог убить меня по приказанию Чаушеску. Мы поспешили убраться подобру-поздорову, и, взлетая, я заметил, что охранник останавливает легковушку».
По словам Малуцана, они долетели до базы менее чем за 15 минут. «Все уже знали, что произошло, так как их приемники были настроены на мою частоту. Одни радовались, другие плакали. Только сейчас я почувствовал, что нервы у меня на пределе; я был бледен, едва держался на ногах, я был фактически на грани обморока. Меня отвели в лазарет, где военврач измерил мне давление. Оно было очень высоким: 170/105, но в лазарете я пробыл недолго». Как только летчик покинул больницу, к нему подошел один из сослуживцев и сказал: «Все это, товарищ, плохо для нас кончится». Но он ошибся; через месяц Малуцана повысили в чине — он стал полковником. Его последнее задание на службе у Чаушеску продлилось менее трех часов.
Последующие затем трагикомические события вполне могли бы быть плодом воображения драматурга Эжена Ионеско (одного из создателей театра абсурда и румына по происхождению). Как только Малуцан улизнул от Чаушеску, он тут же сообщил командиру своей базы координаты места, где он их оставил, и номер красной машины, которую, как он полагал, остановил охранник. Потом, правда, выяснилось, что он ошибся: первая красная машина не остановилась. Один из двух оставшихся при Чаушеску телохранителей, Мариан Константин Русу, остановил следующую красную «дачию» (самую распространенную в Румынии модель автомобиля, выпускаемую по лицензии «Рено» и единственно доступную простому румынскому смертному). Ее перепуганный владелец, доктор Николае Дека, посадил супругов Чаушеску и второго охранника, Флори-ана Раца. «Я повезу вас, куда хотите»,— заверил их доктор, боясь, что в противном случае его просто пристрелят. Русу остановил следующий автомобиль и сел в него. Очевидно, Чаушеску не был осведомлен о планах Русу, потому что в машине, как вспоминал доктор, он сказал Елене: «Вот и Русу нас покинул». Путешествие длилось недолго. Владелец красной «дачии» заявил, что у него кончился бензин, и они остановились. Русу тоже вышел из машины; ее водитель с нескрываемой радостью поспешил удалиться.
Реквизированные машины остановились в поселке Вэкэрешти перед домом заводского рабочего Николае Петришора, в тот момент мывшего свою черную машину; он оказался в этот час дома исключительно по причине своего 35-летия, ему разрешили уйти с работы раньше и провести день с семьей. Кто-то из компании Чаушеску — возможно, сам Чаушеску — не преминул заметить, что машина Петришора несравненно лучше докторской, и предложил продолжить путь в ней.
В это время Флориан Рац уже начал перекачивать бензин из черной машины в красную, пользуясь резиновым шлангом и давно испытанным методом отсоса. Пока он занимался этим, дверь красной машины открылась, и Петришор увидел супругов Чаушеску. Как он потом рассказывал в интервью газете «Ромыния либерэ», он был настолько потрясен этим зрелищем, что закричал находившейся в доме жене: «Они здесь! Это они!» Рац помахал перед его носом автоматом и приказал заткнуться.
Тем, кто не знаком с особенностями румынской жизни, трудно понять всю щекотливость положения Петришора. Впоследствии он говорил корреспонденту французской газеты «Либерасьон», что он буквально окаменел и что будто бы, пока они ехали, Елена держала его под прицелом автомата. Но более поздние сообщения, в том числе и факты, собранные журналистами из «Ромыния либерэ», воссоздают несколько иную картину. «Я адвентист седьмого дня,— сказал он Чаушеску.— Я спасу вас». Желал ли он разыграть блистательную сцену обращения неверных или просто, страшась расправы, хотел изобразить верноподданнические чувства, до сих пор остается невыясненным, сам же Петришор не пожелал углубляться в эту тему. Как бы то ни было, супруги Чаушеску и единственный оставшийся телохранитель (поскольку Русу все-таки воспользовался остановкой и скрылся) сели в машину Петришора и двинулись в путь. Кучка соседей с неодобрительным удивлением наблюдала за их действиями. Кто-то крикнул: «Николае, не делай этого! Они убьют тебя!» Другие позвали детей, чтобы те вдоволь нагляделись на «тиранов». «Я попрощался с женой,— вспоминал Петришор,— и подумал, что, наверно, я ее никогда больше не увижу».
В машине Чаушеску стал расспрашивать Петришора о его работе, жене и детях. «Кажется, они были рады, что я адвентист седьмого дня»,— рассказывал он. Затем супруги принялись шептаться друг с другом. Чаушеску, заметив, что Русу все-таки бросил их, сказал: «Мы потеряли Мариана, мы потеряли Мариана». Потом он приказал Петришору включить радио. Румынское радио было уже в руках повстанцев, и Чаушеску впервые узнал, что ветеран партии Ион Илиеску, долгие годы живший в полуопале, встал в ряды мятежников. Он несколько секунд послушал также бесстрастный голос поэта-диссидента Мирчи Динеску и рявкнул: «Выключи эту дрянь!»
Петришор пообещал отвезти их к себе на работу, в распределительный центр, расположенный вблизи поселка Вэкэрешти, но у супругов были другие планы. Елена намеревалась ехать в Корбу, где находился загородный дом их верного «оруженосца» Иона Динкэ. «Нет, там слишком холодно, мы замерзнем»,— возразил Чаушеску. Он предложил ехать в Тырговиште, в окрестностях которого стоял «образцовый» завод специальных сталей и сплавов — типичная потемкинская деревня для демонстрации высоким иностранным гостям. Рабочие завода принадлежали к привилегированной, благонадежной касте, Чаушеску лично посещал их несколько раз с правительственными делегациями; разумеется, они будут там желанными гостями.
Однако супруги получили от ворот поворот. Завод, как и все румынские предприятия в тот день, бастовал, и стоявшие у закрытых ворот рабочие забросали машину камнями. Петришор развернулся и поспешил уехать. «Эти люди обязаны мне всем,— сказал Чаушеску Елене,— и вот полюбуйся-ка теперь на них».
Затем Петришор попытался доставить их к местному партийному комитету, который, как полагал Чаушеску на основании телефонного опроса из Снагова, пока еще был ему верен. Но судя по волнению, царившему на подступах к партийному кварталу, его информация явно устарела. После бесцельных блужданий по городу Петришор, наконец, привез их к Центру растениеводства, еще одному хорошо известному «образцовому» предприятию города, и, высадив их там, немедленно скрылся из глаз.
Супругов впустили в Центр, директору которого на короткое время суждено было стать героем местного значения. Как он заявил впоследствии средствам массовой информации, он обругал и облил презрением Николае и Елену, а потом хитростью заставил их сдаться милиции.
Истинный ход событий был таков: в два часа дня директор вызвал милицию, с тем чтобы, якобы для обеспечения их безопасности, перевести их в районное отделение милиции. Милицейская машина с двумя милиционерами в форме прибыла в 14.30, и в течение последующих четырех часов супруги Чаушеску тщетно пытались добраться до отделения, где, по их предположениям, еще оставались преданные им люди из Секуритате.
Возбужденные толпы людей заполняли улицы города, и беглецам приходилось прятаться, бесконечно петлять по боковым улицам, часами стоять, припарковавшись возле маленького городского сквера. Удивительным образом никто не заметил их тогда в милицейской машине. Не менее удивительно и то, что начальник местной милиции, получив информацию из Центра растениеводства, не поспешил поделиться ею с вышестоящими инстанциями. Военные казармы находились всего в 500-х ярдах от милиции, но там никто даже не подозревал о присутствии Чаушеску в милицейской машине. Причина подобного поведения заключалась, конечно, в том, что начальник милиции, как и другие работники правоохранительных органов, не был уверен в окончательном исходе восстания и потому раздумывал, не окажется ли, чего доброго, его помощь Чаушеску верным путем наверх? 1
С каждой минутой, однако, и милиция, и Секуритате все отчетливее осознавали, что переход армии на сторону восставших грозит им серьезной опасностью, и начали целыми стаями покидать здание милиции, так что к середине дня оно полностью обезлюдело. Транспорт, оружие и боеприпасы, принадлежавшие Секуритате,— все было брошено.
Военный комендант Тырговиште, возглавлявший полк ПВО, прознав о массовом дезертирстве, немедленно направил отряд из 50 человек занять опустевшее здание. Поэтому, когда в 6 часов вечера Николае и Елена добрались наконец до места назначения, их тут же взяли под стражу, посадили в милицейский «воронок» и кружным путем доставили в казармы. Вместе с ними в машине ехали три офицера, заслонявших их от людских взоров, поскольку разгневанные толпы все еще бродили по улицам. «Воронок» ехал с выключенными фарами, а улицы города не освещались.
Путешествие заняло менее пяти минут. По приезде обоих Чаушеску сразу провели в кабинет майора Дабижи, наспех перегороженный столами на две маленькие комнатки, куда поставили армейские койки, застеленные казарменным бельем. В одном углу стояла большая гудящая кафельная печь, в другом — умывальник с холодной водой. Весь первый этаж этого крыла здания был тут же закрыт для доступа всякому, кроме небольшого числа доверенных лиц. Одному из них, майору Иону Секу, пришлось безотлучно находиться при пленниках в течение трех с половиной дней.
«По приезде,— рассказывал Секу,— Чаушеску вел себя так, как будто он все еще верховный главнокомандующий. Его первые слова были: «Итак, доложите мне, какова обстановка?» Я ответил: «Мы должны оберегать вас от толпы, но подчиняемся мы только бухарестскому начальству». Это привело его в ярость, и он разразился длинной тирадой о предателях, устроивших подлый заговор. Он долго еще не мог примириться с тем, что он пленник».
В течение трех последующих дней Чаушеску попеременно то впадал в состояние глубокой депрессии и часами молчал, то приходил в крайнее возбуждение, гневно обличая предательство. «Моя судьба решилась на Мальте»,— вновь и вновь повторял он, имея в виду недавнюю встречу Горбачева и Буша.
За исключением охранников Чаушеску, один из которых постоянно спал с ними в одной комнате, никто из солдат не знал, кого именно содержат под стражей, хотя многие подозревали, что там находятся какие-то важные шишки прежнего режима, возможно даже сам Эмиль Бобу.
Майор Дабижа впервые увидел пленников, когда принес им в комнату поднос с армейской едой — колбасой и брынзой. «Я не могу есть такое»,— заявил Николае, тыча пальцем в кусок черного хлеба. «Я объяснил им, что мы питаемся этим годами, что это входит в постоянный армейский рацион»,— рассказывал Дабижа, но Чаушеску резко оборвал его: «Не болтай ерунду. Этот край славится на всю Румынию лучшим хлебом». «Эта гадость несъедобна,— сказала Елена, показывая на брынзу и колбасу,— вы что, не знаете, что главнокомандующий не ест соленого?»
Все три дня прошли в атмосфере нескончаемого брюзжания с ее стороны. «Она все время жаловалась,— вспоминал Дабижа.— Несмотря на испуг, она вся кипела от бешенства, и ее неугасимая ярость была ужасна. Она отказывалась идти в уборную, и нам пришлось принести ей ночной горшок». Когда бы Дабижа ни пытался обратиться к Чаушеску, она неизменно одергивала его: «Как ты смеешь так разговаривать с главнокомандующим?» Она требовала чаю, и когда его приносили, спрашивала: «Он с сахаром? У моего мужа диабет. Почему вы даете ему сладкий чай?» Она жаловалась не только на еду, но и на комнату, кровать, на отсутствие чистого белья. Она то осыпала нас проклятиями, то пыталась к нам подольститься. Она требовала инсулина для Чаушеску, но когда 24 декабря лекарство было доставлено, она не разрешала мужу принимать его. Они просили яблок, которыми в основном и питались. «Как вы можете так жить? — все время повторяла она.— У нас дома еда нормальная».
В первую ночь заключения, рассказывал Секу, Николае и Елена спали в одной постели, прижавшись друг к другу. «Было как-то неловко находиться в одной комнате с пожилыми людьми, лежавшими в обнимку»,— признался он. Он вспоминал, как они шептались друг с другом и иногда, несмотря на объятия, тихонько переругивались. До него донеслись слова Николае: «Если бы ты сказала мне, что происходит, я бы избавился от этого Илиеску. Я мог покончить с ним еще летом, но ты мне не позволила. Ты знала о заговоре и не позволила мне их трогать». «Это ты во всем виноват,— отвечала Елена,— прежде всего, нам не следовало сюда приезжать. Это была твоя идея». Секу также разобрал фразу Николае: «Как мог этот дубина Мирча Динеску [знаменитый румынский поэт-диссидент, чью речь они слышали по радио] устроить революцию? Вот крепкий орешек оказался!»
Возможно, из-за обострения диабета, предположил Секу, Чаушеску частенько посещал (причем всегда под конвоем) зловонный туалет в конце коридора. «Вид у него, действительно, был очень больной, и мы предложили ему врачебный осмотр. Но он раздраженно ответил, что, «благодарим покорно», но у него есть личный врач в Бухаресте и — «он единственный, кому я доверяю». Они ничего не ели, кроме хлеба и яблок, и пили только чай без сахара. Пищу из офицерской столовой (суп и тушенку) им приносили регулярно, но еда оставалась нетронутой, как будто они боялись отравы.
Чаушеску потребовал встречи с командиром части. «Как вы смеете держать меня под арестом? — спросил он его.— Я ваш главнокомандующий». Он попросил денег, чтобы «купить в городе съедобную пищу». «Не беспокойтесь, я возмещу вам расходы». Но командир отказал.
До сидящих в комнате пленников доносились крики демонстрантов, требующих их крови. Чаушеску сказал: «Откройте окно, я должен поговорить с народом». По словам майора Дабижи, он все еще пребывал в уверенности, что обладает достаточным влиянием, дабы усмирить толпу.
Учитывая присутствие стрелковых подразделений Секуритате около казарм, расположенных в центре города и потому плохо защищенных, командир части уже обсудил с несколькими офицерами вопрос о целесообразности отправки супругов в Бухарест. Однако к 24 декабря стрельба стала затихать, и впоследствии армейская разведка установила, что часть шума, производимого Секуритате, представляла собой магнитофонную запись автоматной стрельбы, целенаправленно транслируемой в сторону казарм, чтобы ввести армию в заблуждение. В общей сложности с 22 по 25′ декабря снайперами Секуритате было убито 5 человек.
Но утром 23 декабря, когда вокруг казарм шла довольно активная стрельба, было решено переодеть высокопоставленных пленников в военную форму, с тем чтобы затруднить опознание и дезориентировать Секуритате в случае захвата ею казарм. Кондукатору приказали снять темное пальто и меховую шапку и надеть армейскую униформу. Он подчинился, но Елена отказалась; тогда охранники силой стащили с нее пальто с меховым воротником, набросили на нее шинель и нахлобучили на голову фуражку.
Они просидели в своей импровизированной камере еще полтора дня, а в 11 часов вечера 24 декабря их, все еще одетых в военную форму, втолкнули в бронемашину и приказали лечь на пол лицом вниз. В этом положении они провели 5 часов. В 4 часа утра, по окончании боевой тревоги, им разрешили вернуться в комнату. На рассвете им принесли еду, и при виде ее Чаушеску стукнул по столу кулаком. «Как вы смеете приносить мне такую пищу!» — закричал он.
Лишь однажды Чаушеску сделал попытку вырваться из заключения с помощью подкупа. «Как-то ночью,— рассказал майор Секу,— он заметил, что я задремываю. Елена, не смыкая глаз, внимательно наблюдала за нами со своей койки. Он спросил: «Ты устал? У тебя есть все причины устать». Затем он спросил меня о семье. Я сказал ему, что женат, что у меня один ребенок и что я живу в маленькой квартире. «Нехорошо,— произнес Чаушеску,— ты заслуживаешь большего. Послушай, тебе не придется рисковать жизнью задаром, я подарю тебе дом на бульваре Киселёв [фешенебельный район в Бухаресте]. Там будет гараж, семь-восемь комнат, если захочешь, еще больше. А автомобилю в твоем гараже не обязательно быть простой «дачией». Я ничего не ответил, и Чаушеску повторил заход. «Если ты поможешь мне бежать отсюда и добраться до телецентра, откуда я смогу обратиться к народу, я обещаю тебе один, нет, два миллиона долларов. А на первое время, пока мне закрыт доступ к этим деньгам, у меня здесь недалеко — в Войнешти — есть один тайник, откуда я могу взять сотни тысяч лей».
«Я ошарашенно смотрел на него, раскрыв от удивления рот,— говорил Секу,— думая про себя, неужели это и вправду тот самый Чаушеску, которого нам преподносили как сверхчеловека?» Позднее делались разного рода попытки напасть на след этих денег, но каждый раз безрезультатно; очевидно, в этой деревушке у Чаушеску были спрятаны какие-то секретные фонды.
25 декабря в 9.45 утра супругов опять загнали в бронемашину, где они провели около часа. В это время в город стали прибывать первые вертолеты из Бухареста с адвокатами, прокурорами и наблюдателями на борту, в том числе с членом только что созданного Фронта национального спасения Джелу Войканом Войкулеску и генералом Виктором Стэнкулес-ку. Это были непосредственные организаторы судебного процесса. Стэн-кулеску также заранее приготовился к исполнению приговора, ибо его сопровождали четверо вооруженных солдат, выбранных генералом на роль палачей. По свидетельству Дабижи, Стэнкулеску еще до начала суда выбрал и точное место казни — у стены, ограждающей часть казарменного двора.
К этому моменту спорадическая стрельба прекратилась, но напряжение не спадало. Ведя в течение трех дней телефонные переговоры со свежеиспеченным Фронтом национального спасения, начальник тырго-виштских казарм намеренно скрывал истинное местонахождение четы Чаушеску, докладывая министру обороны, что они содержатся под охраной «где-то в близлежащем лесу». Делал он это по двум причинам: во-первых, он боялся, что если его люди узнают о личности пленников, то они могут взять дело в свои руки и расстрелять их на месте, и, во-вторых, он отлично понимал, что еще задолго до революции Секуритате в рабочем порядке подключила его телефон на прослушивание. Поэтому, когда генерал Стэнкулеску приехал, его первые слова были: «Ведите меня в лес». «Они в бронемашине,— ответил командир части.— Что нам делать, посадить их на вертолет и отправить в Бухарест?» «Нет,— сказал Стэнкулеску.— Суд состоится прямо здесь, приготовьте все необходимое». Учебный кабинет, расположенный по соседству с комнатой, хде помещались узники, спешно превратился в маленький судебный зал. По словам Секу, это было единственное безопасное место, поскольку все более просторные комнаты на этом этаже выходили окнами на улицу.
И только теперь, когда супругов вывели из бронированного убежища (что было заснято на пленку армейским полковником, прилетевшим вместе с генералом Стэнкулеску), солдаты наконец узнали, кто были высокопоставленные пленники. Их сразу направили в импровизированный зал суда. Два защитника, присланные от румынской коллегии адвокатов, попытались добиться от супругов согласия на признание их невменяемыми, что позволило бы просить суд об уменьшении ответственности. Разговор был недолгим. Чаушеску с яростью обрушился на адвокатов. «Я не признаю вас, я не признаю этот суд,— заявил Николае.— Меня могут судить только Великое Национальное Собрание и представители рабочего класса». Он повторял эти слова на протяжении всего судебного процесса. Перед началом суда он согласился на короткий медицинский осмотр, проведенный тем же военным врачом, который три дня назад осматривал его пилота. Давление у Чаушеску оказалось столь же высоким — 170/107. Елена вообще отказалась от осмотра.
Суд длился всего 55 минут. Если его можно было назвать публичным, то только в том смысле, что в маленькой комнате присутствовала горстка «наблюдателей» (включая генерала Стэнкулеску и Войкулеску, впоследствии заместителя премьер-министра), которая вместе со своими адъютантами расположилась справа от судебных заседателей. Николае и Елена оказались прямо напротив председателя суда и его советников. Наблюдатели сидели от них слева, а обвинитель, секретарь суда и защитники — справа. За исключением двух адвокатов, все члены суда были военными, поскольку по сценарию полагался военный трибунал. Однако прокурор был в джинсах и свитере с глухим воротом и испытывал явные затруднения, произнося длинные правовые термины в заранее подготовленном письменном изложении дела. На Николае снова было его темное пальто, в котором он бежал из столицы, руки мяли меховую шапку. Елена была одета в пальто с меховым отворотом, вместе с дамской сумочкой она держала плоский, перевязанный веревкой сверток — инсулин, присланный министром обороны в ответ на ее просьбу. Видеозапись суда запечатлела также усатого охранника в форме, стоявшего в течение всего процесса с автоматом наготове; на пленке видно, как по его лицу текут слезы.
Даже по канонам сталинских судилищ 30-х годов вся процедура выглядела непристойным фарсом. Теперь-то уже понятно, что цель суда заключалась не в том, чтобы привлечь чету Чаушеску к судебной ответственности, но чтобы воспользоваться легальным предлогом для скорейшего ее устранения. Снайперы Секуритате лишь тогда прекратят сопротивление, полагали лидеры Фронта национального спасения, когда удостоверятся, что супругов Чаушеску больше нет в живых. Поэтому надо было спешить, к тому же члены суда, тревожась за свою безопасность, отчаянно жаждали покинуть Тырговиште как можно быстрее, ведь чем позже они уедут, тем рискованнее будет их обратный путь через бурлящие улицы Бухареста к спасительному зданию министерства обороны. Их полет в Тырговиште вместо 20 минут занял 2 часа, так как пилоты до того боялись внезапной атаки верных Чаушеску подразделений Секуритате, что выбрали самый долгий, кружной маршрут; вследствие этого на обратном пути им еще предстояло сделать остановку для дозаправки. Их страхи были отнюдь не беспочвенными: вечером того же дня старший адвокат Нику Теодореску, подъезжая на бронемашине к министерству, был ранен рикошетом в спину.
Председатель суда (армейский офицер, два месяца спустя покончивший с собой якобы в состоянии «глубокой депрессии») выступал скорее как обвинитель, нежели как беспристрастный арбитр. Подобным же образом вел себя и старший адвокат Теодореску, единственный из всех, кто гордился своей ролью в этом спектакле и явно наслаждался происходящим. Щеголяя темным, элегантным, в частую полоску костюмом, Теодореску со снисходительно-предупредительным видом подходил к скамье подсудимых, настоятельно предлагая согласиться на сумасшествие.
Некоторые из предъявленных Чаушеску обвинений, как то: «геноцид» в Тимишоаре и пресловутое использование «иностранных наемников» для расправы с демонстрантами, были в ближайшем будущем опровергнуты как совершенно необоснованные. «Это возмутительно, это провокация»,— вскипела Елена, когда суд впервые выдвинул эти обвинения. Николае похлопал ее по руке, как бы прося ее успокоиться. Вся сцена выдавала страшную спешку ее участников, а отвратительные декорации, на фоне которых она разыгрывалась, лишали ее остатков пристойности. Председатель суда поначалу хотел провести процесс в более приличествующей этому событию обстановке — в большом доме, в центре города, но его переубедили, сославшись на соображения безопасности. Временами все происходящее смахивало на пьяную перебранку, где ненавидящие друг друга стороны слишком измотаны, чтобы начать драку.
С самого начала заседания осунувшийся, охрипший и совершенно измученный Чаушеску решительно отказался вступать в какие-либо дебаты, отрицая правомочия данного суда. «Я признаю только Великое Национальное Собрание и представителей рабочего класса,— повторял он снова и снова.— Я не буду ничего подписывать и ничего не буду говорить. Я отказываюсь разговаривать с зачинщиками государственного переворота. Я — президент республики и ваш верховный главнокомандующий. Мы трудимся на благо народа с 14-ти лет». «Так называемый Фронт национального спасения, окопавшийся в Бухаресте,— не что иное, как Фронт национального предательства». «Как уже сотни раз случалось в румынской истории, тот, кто незаконно посягнул на власть, ответит за это перед лицом народа и Великого Национального Собрания. Никто в мире больше не смеет вершить над нами суд».
Но Великое Национальное Собрание распущено, ответил председатель суда. «Никто не имеет права распускать его,— возразил Чаушеску.— Вот почему люди сейчас сражаются на улицах. И они будут сражаться до тех пор, пока шайка предателей, организовавшая при поддержке иностранного капитала переворот, не будет уничтожена». Он храбрился; пребывание в бронемашине и ночная стрельба, очевидно, укрепили его в мысли, что в стране бушует настоящая гражданская война.
Несмотря на отказ вступать в официальные прения с судом* он несколько раз, «говоря от имени простых граждан», пытался опровергнуть предъявленные ему обвинения. На вопрос, признает ли он, что «заморил голодом Румынию», он прокричал: «Чушь. Я как обыкновенный гражданин заявляю, что впервые в жизни румынские рабочие смогли получить по 200 кг муки в год и множество дополнительных льгот. Все ваши утверждения — ложь. Как простой гражданин я утверждаю, что никогда за всю свою историю Румыния не переживала такого прогресса».
«А как насчет золотых весов, на которых ваша дочь взвешивала мясо, полученное из-за границы?» — спросил прокурор.
«Это ложь,— закричала Елена.— Она, как и все, живет в обыкновенной квартире, а не в особняке. Она никогда ничего не получала из-за границы. Как вы смеете говорить такое!»
«Вы всегда были дальновиднее и красноречивее, вы ведь ученый. Вы были главным помощником своего мужа, вторым человеком в правительстве. Вы знали о геноциде в Тимишоаре?» — обратился прокурор к Елене.
«Какой геноцид? — переспросила она.— Знаете, я вообще не буду отвечать на ваши вопросы».
«Вы знали о геноциде или, будучи химиком, вы интересовались только полимерами?»
«Ее научные труды печатались за рубежом»,— рявкнул Чаушеску.
«А кто за вас их писал, Елена?» — поинтересовался обвинитель.
«Какая наглость! — воскликнула Елена.— Я — член и президент Академии наук. Вы не имеете права так разговаривать со мной».
«Значит, она академик,— сказал председатель суда.— Мне нечего больше добавить».
«Оскорбляя нас, вы тем самым оскорбляете ученые общества многих стран, присудившие нам эти степени»,— произнес Чаушеску. Он снова успокаивающе похлопал жену по руке, как бы говоря: «Не стоит обращать внимания на этих людишек».
«А что вы скажете по поводу 400 миллионов долларов, хранящихся на ваших счетах в зарубежных банках?» — задал вопрос обвинитель.
«Доказательства, я требую доказательств,— ответил Чаушеску.— Устройте мне очную ставку с зачинщиками переворота. У меня нет никаких заграничных счетов. Это подлая ложь, у меня нет ни цента. Я подам на этого так называемого прокурора в суд за клевету, и ему придется ответить перед нашим законным апелляционным судом и перед рабочим классом. Все подарки, которые мы получили из разных стран, хранятся в музее и принадлежат государству. Между прочим, они все инвентаризованы».
«Что вы скажете об обстоятельствах смерти генерала Мили?» — спросил прокурор.
«Почему вы не обратитесь к следователю по этому делу?» — ответила Елена визгливым голосом. Николае сказал: «Он покончил с собой, когда понял, что, уклонившись от выполнения долга, стал предателем».
«А почему он стал предателем?»
«Потому что отказался выполнить приказ, и тогда люди пришли к нему и убедили его покончить жизнь самоубийством».
«Вы умственно неполноценный?» — спросил прокурор.
«Это хулиганство,— закричала Елена.— Как вы вообще смеете задавать такие вопросы?»
«Давайте, наконец, покончим с этим безобразием»,— сказал Чаушеску, многозначительно посмотрев на часы.
Историю о том, что будто бы Чаушеску пытался включить на своих ручных часах специальное устройство, позволяющее спасательному отряду Секуритате определить его местонахождение, майор Дабижа, стоявший во время процесса в коридоре и оттуда следивший за происходящим, назвал «полной ерундой». Это были самые обыкновенные часы, сказал он, и Чаушеску посмотрел на них, чтобы просто передразнить председателя суда, который во время заседания без конца нервно посматривал на свои часы. Майор Секу подтвердил это: «Однажды, умываясь, Чаушеску забыл снова надеть часы; я взял и рассмотрел их. Нормальные швейцарские часы».
Во время пятиминутного перерыва, когда суд удалился «на совещание», один из наблюдателей, сидевший в непосредственной близости от Чаушеску, наклонился к нему и спросил, почему тот отказался признать законность трибунала. «Вы только усугубляете свое положение»,— сказал он. Чаушеску повторил, что суд юридически не правомочен. «Наблюдатель» — адъютант генерала Стэнкулеску — снова обратился к нему: «Почему вы покинули здание ЦК на вертолете?» Чаушеску насупился, в упор посмотрел на генерала Стэнкулеску, тоже сидевшего в ряду наблюдателей, и мрачно произнес: «Потому что так посоветовали мне предатели, устроившие этот заговор, и некоторые из них находятся сейчас в этой комнате»,— и он снова яростно уставился на генерала.
Когда после перерыва члены суда вошли в комнату, Николае и Елена отказались встать. При объявлении смертного приговора ни председатель суда, ни судейская коллегия не решались смотреть на осужденных. На вопрос, хотят ли они подать апелляцию, супруги, неподвижно сгорбившиеся за маленьким столиком, не пожелали даже ответить.
По румынскому законодательству, смертный приговор может быть приведен в исполнение не раньше, чем через 10 дней после его вынесения независимо от того, подавалась ли осужденным апелляция или нет. Адвокаты, однако, хранили молчание. Трибунал был намерен вынести свое «окончательное решение» и в угоду этому уже настолько пренебрег всеми юридическими формальностями, что, в сущности, последний инцидент был лишь еще одним процессуальным нарушением.
Четыре солдата, прибывшие с генералом Стэнкулеску, подошли к супругам и стали связывать им руки за спиной. Наверное, только сейчас осужденных впервые охватило предчувствие, что им суждено через несколько минут умереть.
Нельзя не отдать должное мужеству, с каким держался Чаушеску в эти последние страшные мгновения. «Я считаю этот суд незаконным,— прокричал он.— Пусть заговорщики убивают всякого, кого пожелают, предатели ответят за этот путч. Румыния будет жить и узнает о вашем предательстве. Лучше сражаться и умереть со славой, чем жить рабом».
Елена не унималась до самого конца. «Каждый человек имеет право умереть, как он хочет»,— взвизгивала она. И уже на грани истерики, когда гнев боролся с подступающим отчаянием, она прокричала: «Не связывайте нас. Это стыд, это позор. Я заботилась о вас, как мать. Зачем вы делаете это? Вы хотите нас убить, так убейте нас вместе. Мы всегда будем вместе».
По лицу Николае текли слезы, но горящие ненавистью глаза Елены были сухи. Четверо солдат (те самые, что связывали им руки) встали по одному с каждой стороны и проконвоировали пленников по коридору во двор. Один из солдат гарнизона, наблюдавших эту сцену, оказался так близко, что буквально столкнулся с Еленой, прокричав ей: «Послушайте, плохи ваши дела-то, а?» «Пошел вон, скотина»,— крикнула она в ответ.
Выйдя из «зала суда», Николае запел «Интернационал»; в тот момент, полагал Секу, «он, наверно, еще надеялся, что, несмотря на смертный приговор, их отвезут на вертолете в Бухарест. И лишь когда они вышли во двор, то окончательно поняли, что будут расстреляны на месте». «Прекрати, Нику,— сказала Елена.— Разве ты не видишь, они собираются пристрелить нас, как собак». Несколько мгновений спустя она произнесла: «Нет, у меня в голове не укладывается, неужели в Румынии до сих пор существует смертная казнь?»
Четыре палача поставили осужденных лицом к стене. Солдатам дали приказ не стрелять в Николае выше груди, для того чтобы после смерти его могли опознать по снимкам; относительно Елены никаких приказов не поступало. Супруги инстинктивно отпрянули от стены, и в то же мгновение солдаты открыли огонь, причем каждый сделал не менее 30-ти выстрелов. Несколько месяцев спустя экспертиза обнаружила на стене, возле которой расстреляли Чаушеску и его жену, свыше сотни следов от пуль. Солдат, которого так «приложила» Елена, подбежал к стене и выпустил в жертву автоматную очередь. Армейский фотограф и генерал с камерой прилежно снимали.
Впоследствии ряд французских экспертов, изучая фотографии погибших, отметили существенное различие в степени окоченелости и окровав-ленности трупов и выдвинули предположение, что если смерть Елены наступила от выстрелов, то Чаушеску скончался на несколько часов раньше от сердечного приступа и был расстрелян уже после смерти. «Дело в том,— пояснил майор Секу,— что как только началась стрельба, Елена потеряла сознание и упала на землю. В нее стреляли, когда она уже лежала, отсюда и следы крови». Поскольку на Николае было толстое пальто, «кровь впиталась в ткань». Он отверг нелепую идею о том, что их расстреляли по отдельности. «Сотни солдат видели, как это происходило,— сказал он,— и даже несколько местных жителей, чьи окна выходили на плац, стали свидетелями события».
Трупы завернули в брезент и забросили в стоявший наготове вертолет. Их привезли в пригород Бухареста и выгрузили на игровом поле спортивного стадиона, приспособленного министерством обороны под аэродром для всех участников судебного процесса.
Трупы загадочным образом исчезли. Армейские поисковые партии всю ночь прочесывали территорию, пока, наконец, под утро не нашли искомое около ангара, расположенного возле стадиона. Кто перенес тела и с какой целью, так и не было выяснено.
Звездный час Чаушеску
В 1968 году внимание всего мира было приковано к Чехословакии, где современно мыслящее, неортодоксальное коммунистическое руководство во главе с Александром Дубчеком приступило к последовательному демонтажу марксистско-ленинской практики и сопутствующей ей системы жесткого государственного контроля, насаждавшегося с 1945 года вереницей сталинских аппаратчиков. Интересно представить себе, что бы произошло, не будь попытка Дубчека построить «социализм с человеческим лицом» растоптана в августе 1968 года брежневским вторжением в Чехословакию. Не подтолкнула ли бы Чаушеску свойственная ему привычка заимствовать чужие идеи пойти по стопам Дубчека на том основании, что это будущая модель коммунизма? Его некритическое доверие к чужому опыту не позволяет сбрасывать со счетов данное предположение, но вместе с тем его просыпавшаяся уже в ту пору мегаломания делала подобную вероятность весьма сомнительной, хотя ему и удалось на короткое время убедить простаков, что он якобы движется в том же направлении.
Вероятно, даже в 1968 году ему было слишком поздно меняться. Некоторые из румынских коммунистов, близко соприкасавшиеся с ним в те годы, с уверенностью утверждают, что Чаушеску никогда по-настоящему не сочувствовал новым, либеральным реформам Дубчека.
По их мнению, причина, заставившая его осудить советскую интервенцию и поддержать Дубчека, заключалась в том, что в глубине души он знал: рано или поздно его собственное «диссидентство» может спровоцировать Советский Союз на вторжение в Румынию. Таким образом, скорее сама идея советской интервенции, нежели (как в истории с Дубчеком) ее конкретная причина, заставила Чаушеску так бурно отреагировать. Конечно, постоянная слежка и подслушивание, установленные охранкой за румынской партийной номенклатурой, и страх последней перед всесильной Секуритате не располагали к публичным откровениям на сей счет. И все же, мне думается, дело скорее в том недопонимании сути событий и действующих лиц драмы 1968 года, которое позволило многим западным советологам того времени ставить Дубчека и Чаушеску в один ряд. Их сходство всячески подчеркивалось (как оказалось впоследствии, абсолютно неправомерно), а все различия в их характерах и методах руководства игнорировались. Как мы теперь отлично знаем, в то время Чаушеску вел усиленную подготовку по ликвидации остатков коллективного руководства РКП и дискредитации соратников Георгиу-Дежа— старой гвардии, представлявшей, по его мнению, серьезную угрозу его авторитету и амбициям. Западу же был важен только тот факт, что и Дубчек и Чаушеску стремятся покончить со статусом сателлитов.
С точки зрения достигнутой независимости румынский лидер видимым образом обгонял чехословацкого, поскольку к августу 1968 года он более решительно (или, по крайней мере, более демонстративно) порвал с Советским Союзом, нежели Дубчек. Советские войска не ступали на румынскую землю’с 1958 года; румынские вооруженные силы бойкотировали военные учения Варшавского пакта, и среди стран-участниц Варшавского Договора Румыния оказалась своего рода парией, ее даже перестали приглашать на важные межправительственные совещания. В отличие от Чехословакии, Румыния к тому же была менее расположена поддерживать международную политику СССР, о чем свидетельствует протокол голосования в ООН; она также осмелилась, невзирая на ярость Москвы, установить «нормальные» отношения с враждебным Советскому Союзу китайским руководством. Напряженность между Чаушеску и Брежневым (по крайней мере, на поверхностном уровне) достигла критической точки: два лидера отличались друг от друга не только политическим курсом, но и личностными характеристиками. К тому же Брежнев знал, что Чаушеску приказал провести детальное расследование его послевоенной деятельности на посту первого секретаря ЦК КП Молдавской ССР (как стала называться Бессарабия после ее аннексии Сталиным в 1940 году). Советский руководитель был жестоким владыкой, и всеведущая Секуритате собрала полное досье о депортациях, арестах и прочих славных деяниях, процветавших в пору брежневского наместничества. Визит де Голля в Румынию в мае 1968 года и широко разрекламированный визит Чаушеску к Тито в Югославию свидетельствовали о том, что внутри Варшавского пакта существует страна, намеренная сохранить свое лицо и идти своим путем.
Брежнев, однако, гораздо больше был озабочен Дубчеком, нежели Чаушеску, поскольку последний не собирался сотрясать основы марксизма-ленинизма. Дубчек же, напротив, покушался на святая святых системы. Во внутренних делах Румыния оставалась столь же ортодоксальной, как и Советский Союз, за одним, правда, исключением: Чаушеску неоднократно подчеркивал, что он поддерживает «новые веяния» в Чехословакии. Выступая перед рабочими в Галаце, он заявил, что румынская компартия «не разделяет взгляды тех, кто испытывает тревогу в связи с событиями в Чехословакии».
Он всячески демонстрировал (чего, к сожалению, не делал Дубчек) решимость Румынии дать отпор советской интервенции. В речи, обращенной к рабочим-партийцам и выпускникам военных училищ, Чаушеску позволил себе вызывающие намеки: «Нет и не может быть никаких оправданий для чьих-либо попыток осуществить вооруженное вмешательство во внутренние дела любой из социалистических стран-участниц Варшавского Договора». Два дня спустя, 16 августа, для пущей наглядности он прилетел в Прагу и подписал с Дубчеком «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Договор не давал ответа на важнейший (пока, правда, еще гипотетический) вопрос: окажет ли Румыния вооруженную помощь в случае нападения на Чехословакию? Будучи в Праге, Чаушеску охарактеризовал договор исключительно как результат совместных усилий, направленных «против агрессивной политики империалистических кругов», что, однако, мало кого ввело в заблуждение. По возвращении в Румынию, буквально накануне вторжения СССР в ЧССР, он заверил рабочих автомобильного завода, что «судьба чехословацкого народа в надежных руках». «В лице чешского народа,— сказал он,— мы видим прекрасного друга в нашей общей борьбе за социализм». На следующий день советские войска вместе с символическими частями болгарской, восточногерманской, венгерской и польской армий пересекли границу Чехословакии. Дубчек и его соратники были схвачены, силой привезены в СССР и, таким образом, принуждены отказаться от реформаторства в рамках коммунистической системы.
Разумеется, Чаушеску не мог не предвидеть подобного поворота событий; к его чести надо сказать, что и здесь он не отступил. 21 августа во время внушительного митинга на Дворцовой площади он заявил взбудораженной, оживленной толпе, что вторжение СССР в Чехословакию — «это колоссальная ошибка, серьезная угроза делу мира в Европе и судьбе социализма, постыдное пятно в истории революционного движения». «Нет и не может быть оправдания военному вмешательству во внутренние дела братского социалистического государства,— добавил он,— никто извне не имеет права указывать, каков должен быть путь социалистического строительства в каждой отдельной стране». На защиту независимости «нашей социалистической отчизны», объявил Чаушеску, он призывает бросить силы «вооруженной национальной гвардии, состоящей из рабочих, крестьян и интеллигенции».
Бывшие соратники Чаушеску вспоминают, что перед тем как сделать это заявление, он долго метался взад и вперед по дворцу в состоянии крайнего (и вполне понятного) нервного возбуждения. Позднее его советник по иностранным делам утверждал, что это он убедил Чаушеску не только продемонстрировать свою солидарность с Дубчеком, но и занять твердую позицию в отношении уже свершившейся советской интервенции. Но никакие последующие домыслы не могут поколебать тот факт, что благодаря своей принципиальной позиции по этому вопросу Чаушеску буквально в одночасье стал не только национальным героем, но и политической звездой мировой величины. Даже пострадавшие от режима, включая тех, кто за свои антикоммунистические взгляды долгие годы провел в тюрьмах и концлагерях, невольно растрогались. Оглушительные аплодисменты потрясли Дворцовую площадь, а вслед за тем и всю страну; Чаушеску, несомненно, стал героем дня.
Обстоятельства сложились так, что вскоре после выступления Чаушеску я стал непосредственным свидетелем воздействия его речи на румынский народ. В качестве собственного корреспондента журнала «Ньюсуик» я приехал в Прагу почти сразу же после вторжения советских войск. Но через неделю, к моему вящему негодованию, редакция приказала мне в срочном порядке перебраться в Бухарест. Как я потом узнал, главному редактору поступило сообщение из высших сфер ЦРУ, что, согласно фотографиям, сделанным разведывательным спутником, советские войска готовы вторгнуться в Румынию.
Я решил двигаться вдоль румыно-советской границы, чтобы при нападении обеспечить себе, по крайней мере, место в первом ряду. По пути я ненадолго останавливался в Плоешти, Клуже и Брашове, пытаясь определить настроения румын в свете боевых призывов Чаушеску. «Для страны, стоящей перед лицом возможной интервенции со стороны громадного и могущественного соседа,— писал я,— Румыния сохраняет поразительную невозмутимость… Единственные вооруженные люди, которые мне повстречались, были — часовой при винтовке со штыком, охранявший полевой склад, и сухопарый, морщинистый фермер на велосипеде с дробовиком за спиной, ехавший пострелять зайцев». Следов народного ополчения мне нигде обнаружить не удалось.
Я никогда прежде не был в Румынии, и мои первые впечатления оказались весьма сходными с теми, которые вынес отсюда в 1939 году Айвор Портер: две культуры, старая и новая, мирно соседствовали здесь бок о бок. Меня поразило обилие церквей и запряженных волами телег, а также наличие, наряду с коммунизмом, традиционной деревенской жизни. В городах крутили старые вестерны и прочие голливудские фильмы, висели анонсы довоенного «Тарзана» (в исполнении Вайсмюллера). Количество туристов, преимущественно из Западной Германии, тоже превышало всякие ожидания. Продовольственных проблем не было еще и в помине; сидящие в ночных ресторанах немецкие семьи уписывали внушительные порции тушеной свинины, заливая ее изрядным количеством румынского пива.
Однако больше всего меня поразило отношение румын к Чаушеску. Я с большим удовольствием брал попутчиков и весьма плодотворно общался с ними; мои собеседники высказывались вполне откровенно, ибо я старался по возможности скрывать свою истинную миссию, представляясь простым туристом. Один румынский священник, ехавший к друзьям в монастырь, с похвалой отзывался о Чаушеску («Очень хороший человек… он защитит нас от русских») и поведал, как замечательно идут дела в его приходе: «К нам стекаются все — и партийцы, и колхозники, и даже молодые люди. В наших краях вам не найти неверующих». Нефтяник из Плоешти рассказывал: «Живем мы теперь хорошо, дела потихоньку идут на поправку. И будет все замечательно, если только русские оставят нас в покое». «Старому коммунизму, слава Богу, сейчас везде капут»,— заявлял пожилой рабочий. Недовольство, выражаемое моими пассажирами, относилось не к самому Чаушеску, а к изъянам номенклатурной системы. Студенты, все как один мечтавшие о путешествиях по Европе, жаловались, что это возможно только для людей с партийными связями. Другие сравнивали свой скромный быт с жизнью местных партийных боссов, поражаясь, как те ухитрились обзавестись большими домами, «мерседесами» и прочими предметами роскоши, постоянно призывая нацию к соблюдению режима экономии. Ситуация была предельно ясна: в самобытной стране появился необычайно популярный лидер.
Запад не замедлил откликнуться на поступок Чаушеску: его (еще в дни оккупации Чехословакии) посетил Майкл Стюарт, министр иностранных дел в правительстве Гарольда Вильсона, и хотя МИД Великобритании неизменно подчеркивало, что речь идет исключительно об англо-румынских экономических связях, всем было очевидно, что таким образом британское правительство хотело выразить уважение и поддержку независимой позиции Чаушеску.
Его истинный триумф, однако, состоялся год спустя, когда Румынию посетил Ричард Никсон, это был его первый визит в коммунистическую страну в качестве президента США. Он, правда, уже однажды (в 1967 году) нанес «частный визит» в Румынию (где ему был оказан прием, по протоколу полагающийся только главе государства) и еще тогда выразил свое благожелательное отношение к Чаушеску. Визит Никсона задал тон: с августа 1968 года Румынию стало модно посещать, так же как позднее и Китай после визита туда Никсона в 1972 году.
Став генеральным секретарем, Чаушеску вскоре завел практику приглашать в Румынию выдающихся политических деятелей, тщательно при этом выбирая гостей и с известным стратегическим искусством организуя их пребывание в стране. Он инстинктивно останавливался на тех, кто (подобно Никсону и Вилли Брандту) мог впоследствии быть ему полезен, хотя с течением времени он обнаруживал все большую склонность к царствующим особам любого рода. Это был мудрый шаг, ибо в кильватере подобных визитов всегда оказывалась группа журналистов, готовых представить «румынский путь» в самом благоприятном свете. Гостеприимство Чаушеску не только принесло ему широкую известность за рубежом (ибо на волне августа 1968 года он возбудил к себе изрядную долю любопытства), но и дало новый повод и без того раболепной партийной прессе для прославления его величия. Визиты Вилли Брандта, де Голля и Никсона были широко разрекламированы во всей румынской печати.
Еще более пристальное внимание уделили румынские средства массовой информации поездке Чаушеску в Югославию, ибо в 1968 году все еще Тито, а не Чаушеску, был самым известным, самым признанным «антисоветским» диссидентом-коммунистом, не побоявшимся дать отпор всесильному Сталину в далеком 1947 году. С его героическим военным прошлым, его экстравагантным стилем жизни и первенством в политике неприсоединения стран третьего мира Тито для Чаушеску был объектом давней зависти и образцом для подражания. Пример Тито весьма сильно повлиял на жизненный уклад четы Чаушеску, тем более что и Николае и Елена постоянно выискивали, какие исторические достопримечательности и причуды великих людей они могут перенять и ввести в собственный обиход. Немыслимое нагромождение вычурных канделябров во всех зданиях, отделкой которых с 1968 года руководила Елена (в том числе и в особняке Союза румынских писателей), явилось результатом ее посещения мест, подобных Версалю. Один из бывших помощников Чаушеску вспоминал, что Кондукатор чувствовал себя крайне неловко, очутившись на яхте Тито в плотном теплом костюме и тяжелых ботинках; после этого он стал уделять своей внешности гораздо больше внимания, даже отдав на какое-то время дань пристрастию Тито к белым полотняным костюмам и белым туфлям на тонкой подошве. Преображение Елены было столь же радикальным.
В юности и пору ранней зрелости она выглядела «синим чулком» и сознательно поддерживала этот стиль. Но быстро освоившись с новым статусом — жены влиятельнейшего человека в Румынии, она обновила гардероб дорогими и элегантными костюмами и пристрастилась к дорогим украшениям, особенно к золоту. В результате упорной борьбы за фигуру ей удалось сбросить лишний вес и вернуть былую стройность, но она была бессильна изменить свою походку — неуклюжую утиную перевалку на толстых ногах, которую наиболее смелые коллеги передразнивали у нее за спиной.
Потуги Елены играть роль первой дамы порой доходили до абсурда: по словам бывшего дипломата Мирчи Кодряну, во время первого официального визита супругов в США в октябре 1970 года она потребовала, чтобы меню им подавали только на французском языке, хотя ни она, ни Николае французского совсем не знали. Едва вступив на общественное поприще, она быстро обнаружила сугубо хищнические наклонности. Кодряну вспоминал, что тогда же, в октябре 1970 года, запланированный визит в Детройт чуть было не сорвался в последний момент из-за того, что Елена требовала дорогих подарков, на что не соглашалась принимающая сторона. «Я помню, как один из референтов Елены спросил: «Что они собираются ей дарить?» — «Что-то вроде ключа от города — символа вольного Детройта»,— ответил я. «Это не то, ей этого не нужно,— сказал референт,— она хочет какое-нибудь золото — серьги, браслеты…» Президентский самолет был уже на взлетной полосе, а я все еще висел на телефоне и разговаривал с представителем принимающей стороны. «У вас есть какой-нибудь подарок, что-нибудь золотое?» — спросил я. «Да»,— ответил он. Они уже поняли, чего она хочет, и приготовили ей подарок по вкусу. В этот момент помощник Елены вклинился в разговор: «Спроси, сколько весит подарок». «Я не могу это сделать»,— возразил я. «Ты обязан, она хочет знать». Я не нашел ничего лучшего, как спросить: «Если взвесить подарок на ладони, каково ощущение?» «Ощущение нормальное»,— последовал ответ».
Подарки, по свидетельству Кодряну, предназначались для личного музея Чаушеску, однако алчность, считает он, не была единственной побудительной причиной подобного поведения: «Количеством и великолепием поднесенных им даров они хотели показать румынскому народу, как их любит и чтит весь мир».
Чаушеску к тому времени стал проявлять особый интерес к «третьему», неприсоединившемуся миру. Перед руководством этих стран он старался не козырять коммунистическом идеологией, а разыгрывать роль лидера нейтральной страны. Он уже начал развивать идею о том, что Румыния-де гораздо лучше, нежели прочие государства восточноевропейского блока, понимает нужды третьего мира, поскольку она сама стоит перед теми же проблемами — экономическим отставанием и грядущей индустриализацией. Таким образом, полагал Чаушеску, страны третьего мира охотнее пойдут на деловой контакт с Румынией, чем с другими соцстранами, и румынским специалистам будет обеспечен более теплый прием. Подобный маневр, по крайней мере вначале, оказался на редкость успешным.
Другим объектом его неусыпных забот (порожденных маниакальным стремлением выбиться в лидеры международного масштаба) стал Ближний Восток. После 1967 года израильское посольство внутри коммунистического блока сохранилось только в Румынии, что легко объяснялось честолюбивыми притязаниями Чаушеску на роль посредника между Советами и Израилем. Само собой разумеется, данная забота, первоначально продиктованная вполне естественным желанием внести свой посильный вклад в урегулирование конфликта, затронувшего три континента, в дальнейшем превратилась в средство достижения тайной амбициозной мечты стать лауреатом Нобелевской премии мира. С этой целью высокие румынские инстанции год за годом упорно осаждали Нобелевский комитет в Осло, и в газетах часто появлялись сообщения о «выдвижении» Чаушеску на премию. Однако большинству румын было невдомек, что согласно уставу комитета любой парламентский орган имел право выдвигать своего кандидата на соискание Нобелевской премии мира и что избирательный ценз смехотворно низок.
После инцидента с Чехословакией в течение ряда лет Чаушеску в глазах Запада числился рыцарем без страха и упрека. Он был «хорошим коммунистом», единственным подлинным джокером в крапленой восточноевропейской колоде. Истинную суть его натуры западные лидеры прозрели значительно позже, нежели сами румыны. В 1978 году, когда он давным-давно уже выказал все признаки опасной мегаломании (к этому времени его страна была самой тоталитарной в самом восточном блоке), Чаушеску все еще сочли достойным приглашения в Букингемский дворец в качестве личного гостя королевы Елизаветы. В 1983 году, когда румынская экономика окончательно почила в бозе, Джордж Буш (в то время вице-президент) по-прежнему называл его «хорошим коммунистом». Про-румынские симпатии США несказанно усилились после решения Чаушеску игнорировать бойкот Олимпийских игр 1984 года, навязанный сателлитам Советским Союзом.
В действительности самое недвусмысленное намерение стать вторым румынским Кондукатором 2 Чаушеску обнаружил по прошествии всего трех дней после отъезда президента Никсона. 6 августа 1969 года состоялся X съезд Румынской коммунистической партии, и, не дожидаясь его конца, Чаушеску вновь изменил устав: отныне генеральный секретарь переизбирался не Центральным комитетом, а делегатами съезда, органа не в пример более послушного. Перерыв между съездами увеличивался с четырех до пяти лет. Августовский съезд положил конец и любой потенциальной угрозе со стороны старой гвардии Георгиу-Дежа— ни Апостол, ни Стойка не были вновь избраны в ЦК. Невиданное доселе неистовое идолопоклонство, впервые продемонстрированное съездом по отношению к Чаушеску (что он сам воспринял как должное) тоже не предвещало ничего хорошего. Несколько сотен делегатов в едином порыве вскакивали с мест и подолгу аплодировали ему, беспрестанно скандируя «Чаушеску — народ». На съезде он добавил еще один титул к растущему реестру своих заслуг: он стал председателем Национального совета Фронта демократии и социалистического единства, а вскоре, 14 марта 1969 года, приобрел еще два— председатель Совета обороны и Верховный главнокомандующий вооруженными силами. Культ личности развивался по знакомой схеме. В газете «Скынтейя» стали появляться подробные описания жизни нового Кондукатора в его собственном изложении: «Будучи крестьянским сыном, я изведал гнет помещиков, а с одиннадцати лет и капиталистическую эксплуатацию». Среди прочих славословий в адрес Чаушеску, изобилующих на страницах «Скынтейи», фигурировал также и «большой теоретический и практический вклад в развитие и обогащение политической науки». Увы, он очень быстро поверил этим подхалимским благоглупостям и к 1970 году уже стал видимым образом терять связь с действительностью. «Люди вроде меня,— заявил он в начале 70-х годов министру здравоохранения,— появляются раз в пятьсот лет». Под руководством Чаушеску, сообщалось в одной из статей, румынская экономика «достигла такой степени развития, что вызвала восхищение всего мира».
Движение, действительно, было стремительным, а цифры, выдаваемые официальной статистикой, ошеломляющими. Как старательно вбивал в голову своим подданным во время затяжных речей сам Чаушеску, начиная с 1950 года объем промышленного производства ежегодно увеличивался на 12,9%, темпы промышленного развития — на 13%, производительность труда — более чем на 7%, в то время как производительные силы — на 5%. Окупаемость капиталовложений достигла астрономических цифр — от 17,6% в 1955 году до 34,1% в 1971 году, а с 1976 года — 36,3%. Если исходить только из графиков и цифр, то получалось, что Румыния переживает темпы роста, сравнимые только с Тайванем и Южной Кореей, и, подобно этим странам, готовится к мощному экономическому скачку. Но если зарубежные банкиры до некоторой степени и поддались на приманку, поспешив (на основании официальных данных и с учетом симпатии Запада к храброму «антисоветскому» лидеру) предоставить Румынии кредиты, то ожидаемого скачка так и не получилось. Начиная с 1969 года румынские граждане начали сталкиваться с разного рода трудностями и лишениями, стремительно возраставшими год от’ года. Разумеется, причина заключалась не столько в неправильном размещении инвестиций, сколько в приверженности Чаушеску принципам сталинской экономики, благодарая чему все льющиеся широкой рекой кредиты лишь усугубляли тяжелое положение Румынии и вели к неизбежной катастрофе.
Возможно, именно недостаток интеллекта, полная неспособность отречься от сталинского багажа, приобретенного полуграмотным подростком в тюремные годы, помешали Чаушеску совладать с окружавшей его экономической реальностью, ибо страна была богата человеческим потенциалом — в 63—70-х годах румынские университеты все еще выпускали экономистов высокой квалификации, а культурные связи с Западом, в том числе в области исторической науки и экономики, еще не были прерваны.
Но Чаушеску, постоянно балансировавший на грани экономической реформы, в последний момент всегда отступал. В конце 1969 года ведущий румынский экономист-реформатор Александру Бырлэдяну был отстранен от работы, и с его уходом рухнули все надежды на рациональную экономическую политику. Его преемники хорошо усвоили, что устойчивость их рабочего кресла и быстрота продвижения по службе зависят от послушного выполнения директив Чаушеску. Будучи неисправимым сталинистом в экономических вопросах, Чаушеску несокрушимо верил в преимущества централизованного планирования, в примат тяжелой индустрии над сельским хозяйством и в экономическую автаркию любой ценой.
Уровень экономической компетентности Чаушеску особенно нагляден в его выступлении 1974 года: «Если некоторые думают, что им дадут свободу тратить наши народные деньги как угодно и на что угодно, то они сильно заблуждаются. У нас в стране плановая экономика. Принцип самоуправления нельзя понимать как право каждого тратить деньги как ему заблагорассудится. Мы даем полную свободу инициативе по выполнению плана. Давайте уясним себе хорошенько: при расчете капиталовложений вся прибыль должна быть учтена в пятилетием плане, а частности, вытекающие по ходу дела,— в годовом плане. Никто не имеет права строить то, что не предусмотрено планом…»
Иными словами, настоящему предпринимательству не оставлялось ни единой отдушины. Свобода выполнения плана была сродни свободе узника решать свою судьбу, когда дозволено определять режим дня и график работы, но не разрешено покидать тюремный двор. В гротескных декларациях подобного рода недостатка не было, но решения часто принимались (что весьма характерно для диктатуры как таковой) не по соображениям практической целесообразности, но просто по прихоти. Чаушеску мог запросто «подмахнуть» любой дорогостоящий проект, если местный партсекретарь вовремя организовал ему «народную любовь» и воздал”вассальские почести, а еще лучше— устроил отличную медвежью охоту. Со временем местные руководители нашли верный путь к сердцу Кондукатора, лежащий через разгульные охотничьи пирушки и благосклонность Елены (последнее, правда, было весьма непросто, ибо с годами ее подозрительность и злопамятность стремительно возрастали).
Узость экономического кругозора Чаушеску и его падкость на лесть уже сами по себе гарантировали катастрофу. Но последствия «независимой» политики и нефтяной кризис 1973 года окончательно погубили Румынию. В тщетной погоне за индустриализацией совершенно не принимались в расчет энергетические затраты, между тем себестоимость продукции многих румынских предприятий была в 3—4 раза дороже западных аналогов. Все это не имело особого значения до той поры, пока мировые цены на нефть были низкими, но с резким скачком цен румынская тяжелая промышленность оказалась в плачевном состоянии. Советский Союз с лихвой отомстил за позерство Чаушеску, лишив Румынию дешевой советской нефти и заставив ее покупать нефть за твердую валюту по мировым ценам. В 1976 году Румыния уже не была нефтеобеспеченной страной, и более того — она неразумно вложила колоссальные средства в громадный и капиталоемкий нефтеперерабатывающий комплекс, так никогда и не введенный в эксплуатацию.
Даже румынский альянс с третьим миром давал сбой. Большинство африканских инвестиций представляло собой «совместные предприятия», в которые Румыния вкладывала валюты больше, нежели получала взамен. Чтобы поддерживать свое реноме в неприсоединившемся мире, Румыния была вынуждена постоянно субсидировать эти предприятия, став после СССР ведущей коммунистической страной по предоставлению помощи развивающимся странам. Подобная роскошь была Румынии явно не по карману, но для Чаушеску это не имело никакого значения, ибо ему с каждым годом все важнее становилась видимость, а не суть, а его личный престиж был для него в буквальном смысле бесценен. Мало-помалу Чаушеску уходил в мир Пиранделло. Как сказал писатель-диссидент Александр Ивасюк, погибший во время землетрясения 1977 года, Румыния — это страна, где «двадцать миллионов человек живет в воображении безумца». Подобно французскому тирану Луи Наполеону Бонапарту (впоследствии Наполеон III), Чаушеску превращался, говоря словами Маркса, «в серьезного шута, теперь уже не всемирную историю считающего комедией, а свою комедию — всемирной историей».
Целуй руку, которую не можешь укусить
Его Величество любил посещать провинции, допускать к себе простой люд, выслушивать его жалобы и утешать его обещаниями, похвалить кротких и трудолюбивых и пожурить праздных и непослушных.
Рышард Капусцинский. «Император»
В 1978 году, в год шестидесятилетнего юбилея Чаушеску, вышла в свет внушительная (664 страницы!) «подарочная» книга, озаглавленная «Омаджиу» \ и все правоверные румынские коммунисты бросились покупать ее. В ней прославлялись подвиги и достижения Чаушеску, изложенные таким вычурно-раболепным языком, что в любом нормальном обществе это бы вызвало конфузливый смех. Книга в мельчайших подробностях живописала гениальность Кондукатора во всех его ипостасях: семьянина, вождя, творца. Каждый из сорока округов, осчастливленных его официальным визитом, удостоился целого раздела книги с привлечением богатого иллюстративного материала, и все дома, где он жил в детстве и отрочестве, были увековечены в фотографиях. Книга (юбилейный подарок, состряпанный под большим секретом Ду-митру Попеску вкупе с другими придворными) недвусмысленно ставила Чаушеску в один ряд с маниакально-тщеславными диктаторами типа угандийского Иди Амина, северокорейского Ким Ир Сена, албанского Энвера Ходжи и китайского Мао Цзэдуна.
В английском варианте книги, вышедшей без имени автора в 1983 году в издательстве «Пергамон пресс» и, судя по тяжеловесному языку и приторной почтительности, переведенной с румынского, жизнь вождя прослеживалась до 80-х годов. В книге перечислялись все международные титулы и награды, присвоенные Кондукатору 61 страной, причем звание кавалера Большого Креста ордена Бани гордо соседствовало с мавританским национальным знаком почета — Большим Поясом, а иранский орден Пехлеви на цепи —с титулом почетного доктора университета в Ницце, а также юбилейной медалью общества «Апимондия», подаренной исполнительным комитетом Международной федерации пчеловодческих объединений в честь открытия XXVI Международного конгресса пчеловодов. Вплоть до низвержения диктатора эти сокровища хранились в специально созданном Музее национальной истории, каждодневно посещавшемся умытыми и причесанными румынскими детьми в качестве обязательной части школьной программы. Залы музея, где экспонировались зарубежные подарки и награды, были закрыты 22 декабря 1989 года и больше не открывались. Та же участь постигла и Музей истории румынской коммунистической партии, директор которого, профессор Ион Арделяну, долгие годы стойко сопротивлялся негласному давлению сверху превратить музей в святилище Чаушеску. В музее висел всего-навсего один портрет диктатора, да и тот был снят (на что я обратил внимание, когда через несколько месяцев после смерти Чаушеску директор водил меня по пустынным залам).
Подобно Мао, Энверу Ходже и Ким Ир Сену, румынский Кондукатор представал, по крайней мере на официальных фотографиях, существом, не подвластным законам быстротекущего времени; в «Омаджиу» на его лице нет ни единой морщинки, щеки рдеют нежным, вечноюношеским румянцем.
Протокольный отдел Секуритате зорко следил за тем, чтобы на румынском телевидении Николае выглядел надлежащим образом. Как мне поведала одна из многострадальных телередакторов, в чью обязанность на протяжении 20 лет входило «озвучивание Чаушеску», это выливалось в ежедневный изнурительный многочасовой монтаж фильма, пока Секуритате не давала свое «добро». «Нужно было убирать все невольные паузы, заминки, заикания Чаушеску, и только после этого программа шла в эфир»,— рассказывала она; все вырезанные кадры Секуритате собирала и уничтожала. В последние месяцы правления Чаушеску, отметила она, в его публичных выступлениях заметно усилилось заикание и ухудшилась дикция, что явно указывало на возрастающее стрессовое состояние. Существовали также четкие инструкции, согласно которым при съемке нельзя было подчеркивать маленький рост Чаушеску (167 см). Если приглашенные государственные деятели были ростом выше Кондукатора, то их следовало снимать в таком ракурсе, чтобы разница в росте максимально скрадывалась. Долговязых де Голля и Жискара д’Эстена в хронике никогда не показывали рядом с Чаушеску. В качестве дополнительных мер предосторожности операторов, допущенных до съемки правителя, тоже отбирали по критерию роста. «Все они в обязательном порядке были ниже самого Чаушеску»,— сказала она.
Поток хвалебных книг о Чаушеску, стремительно наводнявших с 1978 года книжный рынок и спешно переводимых на все мыслимые языки, изобиловал отзывами других деятелей «мирового масштаба» — свидетельствами необыкновенных дарований Кондукатора. «Советские трудящиеся,— сказал Леонид Брежнев,— высоко оценивают замечательные достижения румынского рабочего класса». Ким Ир Сен, тонкий знаток дворцового этикета, избрал «высокий штиль»: «Вы, дорогой товарищ Президент, знаменитый лидер румынского народа, выдающийся деятель международного коммунистического и рабочего движения, играете заметную роль на международной арене как борец за мир во всем мире». Цитировались также слова королевы Елизаветы, принимавшей в июне 1978 года Николае и Елену в Букингемском дворце и так никогда до конца и не простившей премьер-министру Джеймсу Каллагэну и министру иностранных дел Дэвиду Оуэну то, что они вынудили ее сделать это; на официальном банкете в честь Чаушеску она якобы сказала, что «в Великобритании все находятся под большим впечатлением от стойкости, проявленной вами в защите независимости. Вследствие этого Румыния занимает четкую позицию и играет заметную роль в международных делах. Ваш авторитет, господин Президент, как государственного деятеля мирового масштаба, ваш богатый жизненный и политический опыт широко признаются мировой общественностью». Маргарет Тэтчер была «под впечатлением от личности президента Чаушеску», и особое впечатление он произвел на нее «как лидер страны, желающей развивать сотрудничество с другими народами». «Благодаря глубокому пониманию первостепенных мировых проблем, президент Чаушеску способен внести и вносит свой вклад в урегулирование острейших глобальных проблем человечества»,— сказал бывший президент Ричард Никсон. «Как глава Румынии президент Чаушеску бесспорно обладает огромным влиянием на международной арене»,— сказал Джералд Форд. «Его авторитет давно перешагнул границы Румынии и Европы»,— сказал президент Джимми Картер. Эрих Хонеккер, президент республики Зимбабве, французский писатель по имени Пьер Параф («Президент Чаушеску хорошо известен общественному мнению Франции; он пользуется там большим уважением. Его внешнеполитический курс предельно выражает желание румынского народа крепить мир и взаимопонимание между разными странами») — все сливались в одном хвалебном, тут же фиксируемом на бумаге хоре.
С середины 1970-х годов одним из основных занятий румынских послов за границей стал сбор «иностранных признаний» величия Чаушеску. Рэзван Теодореску, возглавивший румынское ТВ в послекондукаторс-кую эпоху, рассказывал, как однажды в программе новостей прозвучало цветистое приветствие от Сиракузской академии, где Чаушеску провозглашался «крупнейшим лидером и мыслителем современности». Чеоез несколько лет, будучи в Неаполе, любознательный Теодореску отыскал «Сиракузскую академию»; она помещалась в скромной неапольской квартирке, а ее основателем и единственным членом оказалась сухонькая старушка, занимавшаяся репетиторством. Она поведала, что к ней обратился румынский дипломат и, используя метод финансового стимулирования, уговорил ее опубликовать сей панегирик, который он сам же и сочинил.
Кем же надо было быть, чтобы купаться в лучах такой славы, разрешать печатать такие книги и принимать за чистую монету такую похвалу? Неужели Николае и Елена не видели, что улыбки их почитателей насквозь фальшивы и что доведенный до отчаяния народ, когда-то исполненный желания целовать его руку, теперь готов яростно укусить ее? Как они могли допустить, что ТВ транслировало (иногда по два часа подряд) их бесконечные церемонии, в то время как простые румыны тщетно пытались согреться перед телевизорами в полутьме 40-свечовых лампочек? Задумывался ли хоть раз Чаушеску, что действительно думали о нем люди, вынужденные по четыре раза в день простаивать в дорожных «пробках» (иногда до получаса кряду), чтобы Чаушеску в окружении кортежа из девяти машин мог проследовать из Весеннего дворца в центр Бухареста и обратно, тогда как ежемесячная норма бензина была урезана до 30 литров? Что за внутренняя неуверенность снедала супругов Чаушеску, заставляя их столь надрывно убеждать свой народ, что они заслуживают подобного поклонения?
Все культы личности абсурдны, но этот был с особым садомазохистским вывихом, ибо чем хуже становились условия жизни, тем больше и громче приходилось румынам, сгибавшимся под нарастающим бременем лишений, славословить виновников своих бед.
Несмотря на все психологические мотивации и анализы характера Кондукатора, посыпавшиеся после его смерти как из рога изобилия, чувство изумления по-прежнему не покидает румынское общество. Не только абсолютная, но и ограниченная власть развращает человека, и даже в демократических обществах, где политикам вроде бы положено знать об этой опасности, они живут в столь привилегированном мире и так далеки от бренных забот, что невольно забывают об истинных условиях существования прочей части человечества. Но муж и жена Чаушеску превзошли всех: их феодальные замашки поистине воскрешали нравы воевод и времена -деспотического правления фанариотов3 при османском иге.
Один высокопоставленный чиновник американского Государственного департамента, Уильям X. Льюерс, сопровождавший Чаушеску во время его последнего визита в США в 1977 году (в период правления Картера) и имевший возможность наблюдать Кондукатора вблизи, рассказывал, что весь его облик скорее напоминал латиноамериканского диктатора-каудильо, нежели коммунистического вождя. К этому времени румынскому Кондукатору окончательно изменили некогда свойственные ему и крестьянская хитрость, и здравомыслие простолюдина; в Новом Орлеане во время официального обеда в его честь он вышел из-за стола, потому что присутствующий там кардинал хотел прочесть молитву перед началом трапезы. Этот инцидент, получивший шумную и неприятную огласку, с головой выдавал непомерно раздутое самомнение Чаушеску. «Он навязывал всем свои идеи с заносчивым и тупым упорством, без малейшего понятия о такте, который следовало бы проявлять президенту, гостящему в другой стране»,— рассказывал Уильям Льюерс.
Чаушеску совершил также и вторую оплошность, слишком бурно отреагировав на шутливое замечание тогдашнего мэра Нью-Йорка Эдварда Коха, посетившего его в день отлета на родину; накануне группа венгерских эмигрантов устроила демонстрацию у отеля, где жил Чаушеску. «Господин президент,— обратился к нему Кох в качестве извинения,— вчера вечером кое-кто из моих приятелей устроил здесь демонстрацию протеста. Они говорят, что вы не даете венграм, живущим у вас в Трансильвании, свободы вероисповедания и культурного развития. Неужели это правда, господин президент?» По воспоминаниям Льюерса: «Чаушеску побледнел, повернулся ко мне и спросил: «Ну, что на это скажет Госдепартамент? Как он смеет так разговаривать со мной?» Я ответил: «Что ж, у федерального правительства своя политика, а у мэра — свое мнение». Оскорбленный неуважением, якобы проявленным к нему Кохом, Чаушеску приказал всей президентской рати немедленно возвращаться домой, что, однако, сделать не удалось, поскольку Елена Чаушеску прочно обосновалась в салоне Картье, где провела три с половиной часа, т. е. ровно до того момента, когда официальный протокол предписывал им улетать.
Ключ к разгадке феномена культа личности Чаушеску следует, несомненно, искать в историческом прошлом Румынии. Почти 500-летнее владычество турков и фанариотов выпестовало традицию раболепия перед властью; подхалимский стиль газет, воспевавших Чаушеску, казалось, был дословно списан с румынской периодики 1930-х— начала 1940-х годов, столь же тошнотворно славившей короля Кароля II и первого Кондукатора— маршала Антонеску. На заре культа Чаушеску подобные словесные фиоритуры еще пытались смущенно оправдать сильными религиозными настроениями деревенской массы и недостаточной утонченностью новоиспеченной румынской интеллигенции. Однако к 70-м годам нелепые клише типа «Гений Карпат», «Источник нашего света», «Полноводный Дунай разума», «Создатель выдающейся эры в тысячелетней истории румынского народа», «Творец эпохи невиданного обновления», «Кладезь мудрости и святости» — стали уже привычной нормой.
Кочевое наследие румын тоже давало себя знать. Первые политические деятели Румынии (после обретения ею независимости в 1857 году) сочетали обязанности и главы клана и партийного лидера. Стиль руководства этих владык-политиков, многие из которых были потомственными аристократами, больше напоминал замашки вождей ливанских племен, нежели поведение западных парламентских деятелей, и обычай беспрекословного подчинения главе клана пережил и падение монархии, и приход коммунизма. «Мы, румыны,— сказала через несколько месяцев после смерти Чаушеску его племянница, психолог по профессии, Надя Бужор,— всегда тяготели к архетипу Сильного Отца».
Майкл Шафир, отмечая поразивший его факт относительного безразличия румынской «творческой интеллигенции» к культу личности, объяснял его не только «глубоко въевшейся оттоманской традицией лицемерия», но и «укоренившейся привычкой к коррупции, протекционизму и взяточничеству». «Que voulez-vous? — заявил однажды Раймон Пуанкаре, защищавший в румынском суде дело своего клиента.— Nous sommes ici aux portes de l’Orient» 4. Чинопочитание, лицемерие и конформизм были основными характеристиками (если не считать нескольких отрадных исключений, вроде неустрашимого писателя Пауля Гомы) интеллектуальной жизни чаушескинской эпохи. «И по сей день,— признался Ливиу Турху, бывший сотрудник бывшей Секуритате, в 1987 году эмигрировавший в США,— я не могу взять в толк, как могли все эти высокие интеллектуалы и первоклассные журналисты опуститься до того, чтобы, истощая румынский словарь, соревноваться друг с другом в изобретении немыслимых перлов для прославления Чаушеску».
Даже самые авторитетные румынские ученые оказались в паутине этих культовых ритуалов. Как признался ведущий румынский историк Дан Бериндей: «Чтобы иметь возможность напечататься, я, как все, обязан был в своих трудах цитировать Чаушеску. Приходилось искать окольный путь, например, цитировать что-нибудь нейтральное, типа «тот, кто не знает истории, подобен ребенку, не знавшему своих родителей» или «следует уважать истину даже тогда, когда она нелицеприятна». Если искать прилежно, то в его собрании речей, как и в цитатнике Мао Цзэдуна, всегда можно было найти что-нибудь подходящее». «Цитирование Чаушеску стало своего рода религиозным обрядом»,— рассказывал другой ведущий историк, Михня Георгиу. Специальные отделы ЦК месяцами, а иногда и годами изучали содержание подготовленных к публикации книг, и все знали, что те рукописи, в которых не набиралось обязательного количества цитат, отвергались с ходу. Даже на американского посла в Бухаресте Дэвида Б. Фандерберка, чья докторская диссертация «Политика Великобритании по отношению к Румынии в 1938—1940 гг.» вышла в румынском переводе незадолго до окончания его посольской миссии, неоднократно пытались оказать давление, прося включить в книгу цитаты из трудов Чаушеску и фразы, подтверждающие его величие. Дипломат, однако, отказался. Генеральный секретарь Международного общества по изучению стран Юго-Восточной Европы Вирджил Кындя сообщил мне, что основной приоритет в книгоиздательской деятельности Румынии, полностью монополизированной государством, отводился изданию речей Чаушеску и химических исследований его жены, написанных, разумеется, за нее другими. Вследствие этой политики с 1975 года резко упало общее количество книжных наименований. Из произведений художественной литературы в первую очередь печатались те, в которых совершенно беззастенчиво, без всякой связи с сюжетом, прославлялась боевая юность революционного активиста по имени Николае Чаушеску или хотя бы косвенным образом воздавалась хвала его достижениям; поэтому писатели, чьи книги были «на выходе», цинично помещали в «Скынтейе» и других газетах раболепные статьи о Чаушеску, справедливо полагая, что это ускорит процесс прохождения в печать. Устроители выставки отечественного средневекового искусства добились разрешения на ее открытие только после того, как нашли способ связать тематику экспозиции с Чаушеску: «Мы поместили плакат с изображением Кондукатора, посещающего средневековый монастырь».
Большинство интеллигентов и партийцев предпочитали во имя личного благополучия жить в согласии с системой и не противостоять ей; на борьбу с режимом отваживались лишь одиночки. Как объясняла нам Габриэла Адамештяну, ведущая румынская писательница и член диссидентской «Группы за общественный диалог»: «В стране не было четких цензурных установок. Многое зависело от личной храбрости издателя и известности автора. Чем больше ты был знаменит, тем покладистее становились служители системы». В свои последние годы правления Чаушеску постоянно заявлял, что в Румынии вообще нет цензуры как таковой. В некотором смысле он был прав, хотя и существовал так называемый «культурный комитет» при Министерстве культуры, устанавливавший издательские приоритеты. Весь фокус заключался в са-моцензуре, ставшей второй натурой творческой личности в Румынии. Эуджен Ярович, автор книги по искусству фотографии, вспоминал, как Ион Илиеску, в бытность свою директором издательства, снял в его рукописи несколько абзацев, касающихся создания фотоимиджей и роли фотографии и пропаганды. «Я и не думал возражать»,— признался он.
Трусливость подавляющего большинства издателей и чувство горечи, неизбежно возникавшее у любого деятеля культуры, вынужденного обслуживать личный культ Чаушеску, в итоге привели к расколу интеллектуальных сил Румынии; склоки в научной и писательской среде по ожесточенности и унизительности весьма напоминали распри старшего поколения коммунистических вождей в их тщетной борьбе за выживание. Чаушеску и его мифотворцы хорошо понимали, что губительный процесс подавления творческой индивидуальности во имя сиюминутной выгоды — это идеальная питательная среда для мелкого завистничества и соперничества. В душе любого румынского интеллектуала жива память о каком-нибудь позорном акте сервилизма, совершенном из карьерных соображений, и вокруг полно соседей, коллег и соперников, готовых засвидетельствовать это. Мне, например, не преминули сообщить, что вышеупомянутый Кындя, несмотря на всю свою критику в адрес Чаушеску после 25 декабря 1989 года, раньше был сторожевым псом режима и, по широко распространенному мнению, состоял в весьма тесных отношениях с Секуритате. Когда полуавтобиографическая книга «Остинато» Пауля Гомы бесконечно долго «мариновалась» в типографии (в итоге в 1971 году она вышла во Франции и Германии), Кындя сообщил в интервью французскому ТВ, что дело здесь вовсе не в цензурных санкциях, поскольку «цензуры в Румынии не существует», а просто типографские работники решили эту книгу не набирать. Сходным образом, в июне 1990 года, уже при президенте Илиеску, все те же добродетельные печатники решили не набирать выпуск газеты «Ромыния либерэ», содержавший бескомпромиссную критику современной ситуации.
Даже в стане истинных диссидентов, побывавших в тюрьмах и прошедших застенки Секуритате за неподчинение режиму, и то согласия не было. Так, например, писатель Александр Ивасюк, отсидевший несколько лет за свои убеждения, впоследствии без особых колебаний, по словам его старого друга Пауля Гомы, пошел в осведомители.
«В 1957—1958 годах были мы с ним сокамерниками,— вспоминал Гома,— и наши отношения, казалось бы, гарантировали вечную и нерушимую дружбу. Он был осужден на 5 лет, я — на 2 года. Однако после освобождения наши пути разошлись. Меня отправили в пятилетнюю «внутреннюю ссылку» в провинцию, где мне даже не позволили стать деревенским библиотекарем, поскольку бывший политзаключенный не имел права работать в «идеологической» сфере; в итоге я устроился рабочим на заводе в Брашове. Последующая карьера Ивасюка сложилась совсем иначе. После двухмесячной ссылки ему разрешили вернуться в Бухарест, где и начался его взлет. После краткосрочной работы на заводе он попал в номенклатуру, стал переводчиком в посольстве США в Бухаресте, получил стипендию Фулбрайта и в конце концов оказался секретарем Союза писателей и директором киностудии и издательства. Когда я принес рукопись моего романа, он «заложил» меня властям, утверждая, что роман — это замаскированный пасквиль на Елену Чаушеску и других ведущих деятелей режима».
Назначение на должность переводчика в американское посольство служило для Гомы и его единомышленников неопровержимым свидетельством того, что Ивасюк избрал путь сотрудничества с режимом Чаушеску, поскольку подобная работа могла быть предоставлена румынскому подданному только при обязательном условии информировать соответствующие инстанции о всех своих контактах с американскими коллегами. Случай с Ивасюком — отнюдь не единичное явление. Работа переводчиком в посольствах, любая деятельность в туристических агентствах, требующая контактов с иностранцами, должности в министерстве внешней торговли — все эти места изначально предполагали тесное взаимодействие с Секуритате. Многие знаменитые интеллектуалы, среди них даже те, кто за свои взгляды и публичные высказывания подверглись в 50-х годах гонениям и тюремному заключению, вступили на путь коллаборационизма, прельстившись хлебными должностями, ибо в Румынии мало кто мог существовать только на литературные заработки. Противостоять соблазну заграничных поездок, доходных мест и просторных квартир оказалось очень трудно. Иностранцев, по свидетельству Гомы, совершенно обескураживала эта неисчерпаемая способность румын к обману и камуфляжу. «Лично для меня,— говорил Гома,— румынская стипендия Фулбрай-та автоматически означала штамп Секуритате».
Таким образом, атмосфера недоверия и подозрительности, столь характерная для румынской компартии с момента ее основания, распространилась в эпоху Чаушеску и на писательское сословие.
В Чехословакии Вацлав Гавел был не единичным феноменом, но символом ширящегося интеллектуального сопротивления, группировавшегося вокруг комитета «Хартия —77», созданного во имя защиты прав человека сразу после Хельсинкского совещания 1977 года. К сожалению, в Румынии никакого общественного движения подобного рода организовать не удалось. По воспоминаниям Пауля Гомы, когда он, пытаясь созвать диссидентский форум, начал собирать подписи, то встретил решительный отказ со стороны своих коллег. Тогда он, стремясь привлечь внимание к своей изоляции, пошел на крайний шаг и написал письмо… Чаушеску в Королевский дворец, прося того поставить свою подпись под воззванием о необходимости создания собственного румынского «чартистского» движения, «поскольку,— писал он,— мне кажется, во всей стране осталось только два человека, которые не боятся Секуритате: это— Ваше Превосходительство и я. …Я глубоко убежден, что стоит только Вашему Превосходительству обнародовать подобное письмо-декларацию в защиту «Хартии —77», как миллионы румын немедленно подпишутся под ним». Как потом, уже будучи в Париже, с усмешкой рассказывал Гома, «в письме я упомянул, что поскольку моя жена подписала это письмо вместе со мной, то, возможно, и Ваша жена тоже захочет подписать его, тогда мы предстанем в глазах общественности как две мирные супружеские четы». Этот невероятно смелый, почти на грани безрассудства, поступок Гомы застал Чаушеску врасплох. «Мы все ждали и ждали реакции,— говорил Гома,— но молчание длилось два месяца». В конце концов Гома был зверски избит и поставлен перед выбором: либо тюрьма, либо эмиграция. Он выбрал Париж. Через несколько лет на него и Вирджила Тэнасе (еще одного известного румынского литературного изгнанника) Секуритате организовала крайне неудачное покушение, получившее широкую огласку и покрывшее и Чаушеску и его охранку несмываемым позором.
Вполне естественно, что память об этом периоде все еще сильно влияет на взаимоотношения между небольшой группой писателей и интеллигентов, открыто противопоставивших себя режиму Чаушеску, и пестрым коллаборационистским большинством. Как тонко подметил профессор Дан Бериндей, если до 25 декабря 1989 года невозможно было опубликовать книгу без цитат из Чаушеску, то после 25 декабря немыслимо напечатать материал с его цитатами. Сам Бериндей для многих румынских интеллектуалов остается весьма противоречивой фигурой, а Гома безапелляционно называет его не иначе, как «оппортунист-коллаборационист». В постчаушескинской Румынии подобное навешивание ярлыков стало нормой поведения.
Я однажды попросил Криса Тау, бывшего румынского подданного, ныне британского кинорежиссера, работавшего до отъезда за рубеж (в 1978 г.) на румынском ТВ, объяснить мне, почему телевизионные боссы сочли необходимым занимать целых два часа лучшего эфирного времени под репортаж о ежедневной деятельности Чаушеску. Он объяснил мне.
что дело обстояло несколько иначе. Вероятно, какой-нибудь чиновник на ТВ предложил ежедневно давать 10-минутное резюме об официальных встречах и занятиях Чаушеску. Другой чиновник, стремясь выслужиться перед начальством, присвоил идею себе и увеличил время трансляции до 30 минут. И пока в верхних эшелонах румынского ТВ один подхалим соперничал с другим по части верности и преданности делу Чаушеску, программа разрослась до двух часов. В эпоху Чаушеску так происходило не только на ТВ, но и во всех сферах государственного планирования. Поскольку каждый горел желанием доказать свою верность и покорность режиму, постольку не было конца трагикомическим казусам.
Дан Петреску вспомнил случай, как однажды поздним летом Чаушеску решил посетить город Яссы, и местные власти распорядились посадить деревья по обеим сторонам дороги, ведущей в город. Деревья посадили слишком рано, и они успели увянуть до приезда Чаушеску. Тогда к дороге срочно пригнали отряд рабочих и заставили их выкрасить листья в зеленый цвет. В отличие от Чехословакии, где самых талантливых писателей либо отправляли в тюрьму, либо обрекали на физический труд, румынских поэтов и писателей государство старалось коварно обольстить и делало это подчас весьма успешно. Адриан Пэунеску, один из самых талантливых молодых поэтов 60-х годов, кончил тем, что стал доверенным лицом Чаушеску, расхвалил его до небес в пресловутой юбилейной книге «Омаджиу» и поставил помпезную карнавальную «мистерию», прославлявшую Кондукатора. Воспоминания об этих унизительных компромиссах все еще очень свежи и лишь подогревают всеобщее недоверие румын друг к другу.
Беспредел рождал беспредел. Николае был начисто лишен чувства юмора и потому совершенно не способен ощущать грань, отделяющую великое от смешного, а Елене было абсолютно неведомо чувство стыда, ибо ее «заимствования» из чужих работ и страсть к почетным степеням (что на языке психологии означает патологический поиск признания) превосходили все пределы.
При всей своей разобщенности и взаимных распрях, румыны единодушно сходятся в одном: Елена Чаушеску была злым гением Николае. Ее бывшие слуги утверждают, что единственные существа, к которым она питала нечто похожее на искреннюю любовь, были ее два лабрадора — Корбу и Шарона. Она беспрестанно брюзжала и занудствовала. По словам их пилота, полковника Малуцана, «что бы неприятного ни происходило, она во всем винила нас: это мы насорили на ковре в вертолете, это мы виноваты в плохой погоде, затруднявшей полет. Она никому не доверяла и всех ненавидела». На публике она еще старалась разыгрывать верную соратницу и подругу своего мужа, но за кулисами ее презрение к роду человеческому не обходило и его. «Ей-богу, он ее боялся,— уверял профессор Ион Арделяну.— Если он опаздывал на встречу с ней или на обед, он начинал поминутно смотреть на часы, заикаться и потеть». По словам другой особы, приближенной к Чаушеску, Елена постоянно пускала в ход два излюбленных приема сварливых жен: «без меня ты был бы никто» и «я — единственная, кому ты можешь доверять».
С 1968 года Елена была членом бухарестского муниципального комитета РКП, но уже в 1972 году она стала членом ЦК, а через год — членом исполнительного комитета. В 1979 году она стала фактически членом кабинета, поскольку являлась председателем Государственного совета по науке и технике; к 1980 году она уже была первым заместителем премьер-министра и самым могущественным после Николае лицом в государстве. Но куда более важным, нежели все эти титулы, было ее назначение на должность председателя Комиссии ЦК по государственным и партийным кадрам, что на деле означало полный контроль над всеми высшими партийными и государственными постами. Она столь же пренебрежительно обращалась с государственными и партийными сошками, как прежде с научными кадрами. «Она была вздорной и сварливой,— рассказывал бывший министр здравоохранения Эуджен Прока,— катастрофически бездарной и к тому же подлой; никто на свете не мог убедить ее изменить свое решение. И она была злым демоном Чаушеску. С Николае можно было разговаривать, в нем теплилось что-то человеческое, но Елена была абсолютным воплощением зла. Она была невероятно тщеславной и почти неграмотной. Она казалась смесью Имельды Маркос, Эвиты Перон и Цзян Цин. Вы спросите, как им, черт возьми, удалось пролезть на самый верх? Они обладали упорством и выдержкой, знали, как подбирать людей и контролировать систему».
Свой дурной нрав Елена вымещала на всяком, кто попадался ей под руку, независимо от чинов и званий. Один бывший фотограф рассказывал, что фотографировать Елену было самым страшным испытанием для всех его коллег, поскольку ей невозможно было угодить и она постоянно поносила снимающих. «Почему вы сделали мне такой длинный нос? Мы вам даем дорогую аппаратуру не для того, чтобы вы зря переводили пленку». Ее презрение к людям было беспредельным. Тот, кто имел несчастье ее прогневать, немедленно попадал в черный список и навсегда лишался работы по специальности. Ее язвительность и коварство вошли в поговорку. Она устраивала неожиданные облавы на кухне и затем обыскивала комнаты прислуги, проверяя, не разворовывают ли ее съестные припасы. Ее безмерная подозрительность доходила до того, что когда она посылала сыну Нику в Сибиу специально приготовленный йогурт, то приказывала закрывать крышки бидонов на замок, чтобы никто не мог украсть или отравить содержимое.
«Вернувшись однажды из Греции, она вдруг подарила мне коробочку с десятью турецкими сладостями,— рассказывал ее бывший главный камердинер.— Мне сразу дали понять, что это знак неслыханной милости с ее стороны. Сладости не предназначались для еды, их следовало хранить как священную реликвию».
Стремление Елены принизить всех прочих родственников из клана Чаушеску ярко проявилось во время их визита в США в октябре 1970 года, что засвидетельствовал Мирча Кодряну, работавший в то время сотрудником румынского посольства в Вашингтоне. «Она настойчиво требовала, чтобы ее провели по всем меховым магазинам Манхэттена, а также приказала самым известным ювелирам прийти с образцами своей продукции в ее нью-йоркскую резиденцию»,— рассказывал он. Чуть позже он сопровождал в аналогичной экспедиции одну из сестер Чаушеску. «Это была очень милая, скромная женщина,— сказал Кодряну.— В итоге она купила всего-навсего одно недорогое золотое колечко. Я спросил: «Почему вы не купите что-нибудь подороже?» Она ответила: «Елена не разрешает нам носить вещи, в которых мы выглядим лучше нее».
Ее жадность до международной славы и «иноземных» почестей была еще ненасытней, нежели у ее мужа, и подавляющая часть предварительной работы, проводимой в связи с предстоящим официальным визитом Чаушеску за рубеж, заключалась в добывании для Елены почетных степеней, удостоверяющих ее «ученые заслуги». «Будучи невежественной, необразованной, примитивной женщиной, она искренне полагала, что вереница титулов, сопровождающих ее имя, действительно может изменить ее суть»,— заключил Кодряну, который, кстати, по обвинению в мнимом шпионаже был приговорен к смертной казни и освобожден только после свержения Чаушеску.
Накануне визита высокопоставленной четы в Букингемский дворец румынская подготовительная группа предприняла отчаянную попытку добыть для Елены звание почетного члена Королевского научного общества. Оксфордский и Лондонский университеты также подверглись атаке, но успешно ее отразили, и Елене пришлось довольствоваться почетным членством в Королевском институте химии и почетной степенью в Центральном лондонском политехническом институте. На торжественном заседании профессор сэр Филип Норман, вице-канцлер Лондонского университета, высоко оценил ее вклад в макромолекулярную экспериментальную химию, особенно в области «стереоспецифической полимеризации изопрена, стабилизации синтетического каучука и сопо-лимеризации». Как рассказывал позднее Мирча Корчовей, один из научных сотрудников Института химических исследований, который был реальным исследователем в этой области: «Нам объявили: ни одна конференция не будет проведена, ни одно исследование не будет опубликовано, если там не будет значиться фамилии Елены. Мы никогда ее не видели, она ни разу не давала о себе знать за все время научных4 экспериментов и после того. Она даже понятия не имела о нашем существовании. Мы публиковали под ее именем труды, слова в которых она не только не понимала, но не в состоянии была бы даже произнести».
Подобного рода награды и панегирики ведущих западных политиков в адрес Чаушеску должным образом освещались в румынской прессе и по ТВ, способствуя дальнейшей моральной деградации и социальной пассивности творческой интеллигенции. «Всякий раз, когда рапортовали о новой почетной степени,— рассказывал Бериндей,— мы падали духом». В нынешней постреволюционной Румынии как-то не принято вспоминать, что те самые люди, которые теперь яростно критикуют западных лидеров и интеллектуалов за неуемное восхваление Чаушеску, сами во времена оны проявляли постыдное малодушие. Исключение составляла лишь румынская Академия наук, которая до самого конца держала круговую оборону против попыток Елены подмять ее под себя. Будучи с 1974 года ее членом, Елена лелеяла мечту стать ее президентом; мечта, однако, разбивалась о стойкое сопротивление академиков. В конце концов она подорвала влияние Академии наук, создав целую сеть новых академий — по одной на каждую область знания — и нашпиговав их своими выдвиженцами.
Елена и Николае весьма существенно отличались друг от друга .по характеру. Как пояснил профессор Георгиу: «Он умел обращаться с людьми, он льстил им. Он мог сказать нечто вроде: «Вы выдающийся хирург, но вы ничего не смыслите в управлении». Он также любил выставлять напоказ своих придворных интеллектуалов перед именитыми иностранными гостями типа Аверелла Гарримана. В таких случаях он обычно говорил: «Вот моя интеллектуальная конница». «Если вы неустанно повторяли, что такая-то идея первоначально исходила от него, то в ряде случаев его можно было склонить к ее осуществлению»,— говорил бывший министр здравоохранения Прока. Но с Еленой Чаушеску любой диалог был бессмыслен. Она шла к цели с помощью угроз и издевательств.
Хвалебные псалмы в честь Елены стали неотъемлемыми религиозными ритуалами румынской жизни. Ведущие поэты соперничали друг с другом в изобретении новых немыслимых гипербол. Так, типичное пиитическое творение в честь 60-летнего юбилея посвящалось «первой женщине страны, гордости всей страны. Подобно звезде, мерцающей подле другой на вековечной небесной тверди, стоит она рядом с Великим мужем и озирает очами победоносный путь Румынии». Средства массовой информации уже давно привычно называли ее не просто товарищем-академиком-доктором-инженером, но «передовым фронтом колоссальной политической активности, сыгравшим решающую роль в становлении румынской науки, образования и культуры». Румыны на всю эту бредятину реагировали с поистине висельным юмором; «Чаушвенцим», «Чаусима», «Паранополис» — так называли они свою страну, распластанную под пятой Чаушеску.
По мере развития культа личности Чаушеску, состав и качество руководства в средних и верхних эшелонах власти претерпевали драматические изменения. В 1968—1971 годах многие уважающие себя политики еще верили, что игра в пестование гениальности Чаушеску стоит свеч. Даже после 1971 года тех, кто не желал больше мириться с удушающей атмосферой низкопоклонства и угодничества — вплоть до ухода в отставку и даже полного разрыва с режимом,— было весьма немного. В этом отношении довольно показательна судьба нынешнего румынского президента Иона Илиеску. Стартовав с поста первого секретаря румынского комсомола, где он успешно провел операцию по «чистке» студенческой среды, за что и удостоился благосклонности Чаушеску, он сделал молниеносную карьеру и стал членом заветного круга приближенных Кон-дукатора, где и пребывал до осени 1971 года, покуда не осмелился покритиковать некоторые аспекты культурной политики Чаушеску. В это время он был ключевой фигурой ЦК, ответственным за культурные связи. После 1971 года его понизили в должности и подвинули в сторону. Его дальнейшая карьера включала в себя посты районного партсекретаря в Тимишоаре и других округах, а также второстепенные министерские должности (вроде министра водоснабжения). В декабре 1989 года его назначили директором ведущего издательства технической литературы «Эдитура Техника». «Политика Чаушеску в отношении диссидентов была довольно тонкой,— считает Эмануэль Валериу.— У нас на этот счет была поговорка: он оставлял всех плавать в аквариуме с золотыми рыбками».
Несколько рыбок, правда, повыловили, но с течением времени «заветный круг» стал превращаться в ревниво и зорко охраняемый заповедник, доступный лишь родственникам и подхалимам. «Социализм в рамках одной семьи»,— говаривали румыны. Помимо Елены ключевые государственные посты занимали два ее зятя, а также племянник. Георге Петреску, Гогу, в ранней юности прозванный «болваном», стал заместителем премьер-министра, Илие Чаушеску, старший брат Николае,— заместителем министра обороны. Николае-Андруцэ, другой брат, генерал-лейтенантом и ключевой фигурой в министерстве внутренних дел. Несколько родственников стали министрами или членами ЦК. Нику, беспутный младший сын Елены и Николае, возглавил сначала комсомол, стал членом ЦК, а затем — первым секретарем областного комитета партии в Сибиу и кандидатом в члены священного.Исполнительного комитета ЦК.
Разумеется, любые упреки в непотизме гневно отвергались. «Знакомство с истинной биографией людей, близких к г-ну Чаушеску, помогает нам понять, как все здесь просто и естественно,— писал анонимный агиограф.— Они сами выбрали свой путь в соответствии с их образованием, склонностями и профессиональными качествами. Некоторые журналисты порой так увлекаются поисками родственников главы государства на ответственных постах, что слепо доверяют ложным цифрам, слухам и сплетням, а также тенденциозным интерпретациям».
«Скажите, пожалуйста,— обратился однажды к румынскому лидеру зарубежный журналист,- как вы оцениваете роль , мадам Чаушеску, которая, будучи вашей женой, к тому же является и политическим деятелем?» Ответ Чаушеску, помещенный в анонимной биографии, выпущенной издательством «Пергамон пресс», представляет собою не только классический памятник лицемерия, но и прекрасный образец типично чаушескинской «логореи» (то бишь словоблудия), ибо без невыносимо выспреннего, назидательного и бессмысленного нанизывания словес он был не в состоянии ответить на простейший вопрос: «Чтобы ответить вам, я начну с общей характеристики механизма государственного управления в нашей стране. В румынском социалистическом обществе главенствует принцип коллективного руководства. Это означает, что в различных совещательных органах (кадровых, партийных, государственных) активисты участвуют в принятии решений при опоре на широкие массы трудящихся; такова одна из важнейших особенностей социалистической демократии в Румынии. Данные совещательные органы имеются на каждом предприятии, во всех экономических и социальных звеньях хозяйства, в которых принимают участие представители рабочего класса и других слоев населения. Все эти органы работают в духе коллективизма, принимают коллективные решения по всем вопросам. Государственное управление опирается на принцип коллективного руководства, а в партии, в период между съездами, Центральной комитет и Исполнительный комитет являются теми органами, которые решают все проблемы, связанные как с внутренним развитием страны, так и с ее внешней политикой. Таким образом, наряду с другими членами правительства, Елена Чаушеску вносит свой посильный вклад в решение вопросов развития нашего общества».
Несмотря на суровый контроль, засилье стукачей и жесточайшую «информационную диету», румыны тем не менее были прекрасно осведомлены о всех домашних неурядицах в священном семействе. Сплетни разносили сведения о разрыве Валентина с семьей, о бурной личной жизни Зои, о женолюбии Нику и его пристрастии к автомобильным гонкам в пьяном виде и дебошам в ночных ресторанах. Отсутствие прямой информации и свободной прессы невольно порождало кривотолки и необоснованно преувеличивало как грехи Нику, так и количество любовных приключений Зои. В свете нынешнего дня можно определенно сказать, что все трое детей Чаушеску были скорее жертвами, нежели баловнями системы. Но культ личности изо всех сил пытался насадить идеалистический образ семейной жизни Чаушеску; например, в «Омаджиу» мы читаем:
«С восхищением и уважением взираем мы на гармонию его [т. е. Чаушеску] семейной жизни. Мы придаем особое этическое значение тому факту, что вся его жизнь — бок о бок с его верной помощницей, бывшей ткачихой, комсомольской активисткой, членом партии с подпольных времен, а ныне Героем социалистического труда, членом Центрального комитета РКП, товарищем Еленой Чаушеску— является образцовым примером судеб двух коммунистов… Трое детей Президента, следуя заветам родителей, как и мы все, трудятся на благо победы социализма в Румынии. Все это свидетельствует о том, что труд и личный пример являются основными заповедями в семье Чаушеску».
При чтении этой ахинеи всеведущие румыны давились от смеха и ярости. Всем было хорошо известно, что жена Валентина Чаушеску — Иордана Борилэ (наполовину еврейка) — была изгнана из «заветного круга», и в результате супруги лишились почти всех номенклатурных привилегий, жили в маленькой двухкомнатной квартире. Валентин, которого в итоге разлучили с Иорданой и сделали членом ЦК, добровольно сдался новообразованному Фронту национального спасения прямо в день бегства своего отца. Его арестовали, но судить, вероятно, не будут, ибо лидеры Фронта, особенно Петре Роман и президент Ион Илиеску, прекрасно знают, что их привилегии при жизни Кондукатора были куда большими, нежели у Валентина. Если даже суд состоится, Валентин Чаушеску с полным основанием может утверждать, что его отношения с родителями были крайне напряженными, а его ненависть к Елене — неподдельной. В Институте ядерной физики, где он работал после окончания Лондонского университета, у него осталось много сторонников.
Аналогичным образом складывалась и судьба Зои. Еще будучи студенткой математического факультета, она поняла истинную суть режима, созданного ее родителями, и возненавидела его. В 1974 году она убежала из дома, и все силы Секуритате были брошены на ее поимку. Супруги Чаушеску вызвали к себе на личный допрос Надю Бужор, в девичестве Надю Бэрбулеску (племянницу Николае, дочь его младшей сестры Елены), поскольку они знали, что Зоя и Надя подруги. «Николае осыпал меня проклятиями, кричал, что бросит в тюрьму, если я не скажу, где она,— вспоминала Надя.— Елена действовала хитрее и вкрадчивым голосом увещевала меня: «Я думала, что ты наш друг». Эта сцена так испугала Надю, что когда Зоя вернулась в лоно семьи, она, страшась за свою жизнь, предложила больше не встречаться. «Жизнь Зои была постоянным кошмаром,— вспоминала Надя.— Она хотела вырваться из «заветного круга», но понимала, что обречена; куда бы она ни скрылась, длинная рука Секуритате все равно настигла бы ее. Она часто с горечью восклицала: «Господи, что же мне делать в этой жизни?»» Николае и Елена были убеждены, что это Надя подбила Зою на мятеж. Надя училась на психологическом факультете Бухарестского университета, и они обвиняли ее в том, что она «подвергла Зою психоанализу».
Неудачный побег Зои обернулся для румынского ученого мира подлинной катастрофой. Зоя работала в весьма престижном математическом институте, и Чаушеску, считая институт главным виновником «богемного мировоззрения» дочери, распустил его, распылив научный состав по многочисленным научно-исследовательским организациям. Вследствие этого, по словам бывшего министра образования Мирчи Малицы, «свыше двухсот первоклассных математиков покинули страну и в итоге’ осели в США; это была самая масштабная перекачка мозгов в послевоенной истории европейской страны». Используя семейные связи, Зоя помогла многим своим коллегам достать выездные визы, и это еще больше взбесило родителей. В конце концов в 1977 году был закрыт и факультет психологии. Арестованные после смерти их отца, Валентин и Зоя через 8 месяцев были выпущены на свободу.
Из всех детей Чаушеску только младший, Нику, казалось, не тяготился родителями. Он тоже был под неусыпным наблюдением Секуритате, но поскольку он открыто не бунтовал, родители нянчились с ним, прощая и пьянство и «плейбойские» замашки. Правда, получив пост первого партсекретаря в Сибиу за несколько лет до декабрьской революции 1989 года, он неожиданно проявил деловые качества. Во время суда над ним в 1990 году многие очевидцы засвидетельствовали, что он пытался решить продовольственную проблему и хоть как-то улучшить условия жизни в подвластном ему регионе. Во всяком случае большинство леденящих душу историй об изнасилованиях, сексуальных извращениях и садизме Нику (согласно одной популярной байке, он якобы приказал вырвать ногти на руках Нади Команечи в отместку за то, что знаменитая гимнастка отвергла его ухаживания) оказались чистейшей воды выдумкой румынских обывателей, ищущих объяснения тому экономическому и моральному банкротству, в которое погружалась страна. Сходным образом слух о том, что будто бы Чаушеску каждый день менял костюм, а старый уничтожал, символизировал для людей безрассудную расточительность правительства в то время, когда румыны сбивались с ног в попытках найти мало-мальски приличную пару обуви. В 1990 году бывший портной Чаушеску, заведовавший довольно большим, но вполне обычным для главы государства гардеробом Кондукатора, убедительно доказал, что подобный слух столь же необоснован, как и жадно передаваемая из уст в уста (уже после смерти Чаушеску) сказка о том, что ему якобы переливали кровь замученных румынских детей,— история, явно навеянная легендой о Дракуле.
В поразительно уродливом по убранству Весеннем дворце — бухарестской резиденции Чаушеску —три комнаты были специально зарезервированы для их детей, которые, однако, туда не приезжали. По словам одного из дворцовых работников, во время царствования Чаушеску эти стены никогда не видели гостей, даже дети не переступали порога дворца, хотя они иногда тайно навещали бабушку, жившую в отдельном доме слева от главного входа во дворец. 22 декабря ее, ста двух лет от роду и в полном маразме, нашли разгуливающей в одной ночной рубашке по двору и забрали в больницу, где она спустя несколько дней и скончалась, оставаясь в полном неведении относительно злосчастной судьбы ее сына. Она, по показаниям прислуги, в последние годы тоже не имела почти никакого отношения к Елене и Николае и даже почти не виделась с ними, хотя в целях пропаганды румынская пресса регулярно печатала фотографии Елены со своим престарелым отцом и Николае со своей матерью. По рассказам тех же слуг, в последние годы несчастная старуха недоуменно сокрушалась, почему ее, как пленницу, держат взаперти и почему внуки больше не приезжают к ней.
Начало падения
«Сейчас я выйду вперед и скажу: Царь Царей предпочитал выбирать себе плохих министров. И Царь Царей предпочитал их хорошим, потому что очень любил представать на их фоне в самом выигрышном свете. Как бы он смог подать себя выигрышно, буде он окружен хорошими министрами? Люди были бы сбиты с толку».
Рышард Капусцинский. «Император»
В июне 1971 года, спустя год после первого визита в США, Николае и Елена Чаушеску отправились в другое официальное турне — на этот раз по Китаю, Северной Корее и Вьетнаму. Эта поездка оказалась чреватой бесчисленными драматическими последствиями для Румынии. Супруги всегда были падки до чужих идей, а посему они всерьез восприняли «уроки» пресловутой китайской культурной революции. К этому времени мировое сообщество уже начало осознавать ее невероятные издержки и жестокость, но для непосвященного наблюдателя культурная революция представала грандиозным экспериментом в области социальной инженерии.
На высокопоставленную чету неизгладимое впечатление произвел также прием, устроенный ей в Пхеньяне. Именно здесь, в строго геометрическом разбеге улиц, в бесчисленных анфиладах типовых домов, в монолите ликующей толпы, в восхищении, оказанном им как гостям «божественного» Ким.Ир Сена, в сказочно чистых заводах, населенных, по всей видимости, счастливыми, машущими флажками рабочими, и в гудящих, подобно гигантскому улью, индустриальных комплексах, Чаушеску впервые увидел живое воплощение его давней, истинно сталинистской мечты: претворение в действительность «Коммунистического манифеста» Карла Маркса.
Несмотря на умелое манипулирование партийными кадрами, на полное уничтожение потенциальных противников и на искусную тактику «диссидентства» в отношениях с Западом, Чаушеску во многих аспектах оставался очень наивным человеком. Он всецело разделял страстную любовь румынского плебса к карнавалам, парадам и шествиям. Его культурный уровень был чудовищно низок. «Мне ни разу не доводилось поговорить с ним о чем-нибудь, не имевшем прямого отношения к работе,— рассказывал Маурер, бывший с 1962 года и до середины 70-х годов одним из его ближайших помощников.— Не помню случая, чтобы он хоть раз упомянул о литературе или искусстве. Эта сторона жизни для Чаушеску просто не существовала». Его презрительное недоверие к коллегам и соратникам граничило с паранойей, но он до самого конца свято верил, что массовые демонстрации в его честь символизируют некое мистическое единение с народом. С начала 70-х годов он стремительно терял связь с действительностью. По мере того, как он старел, а внутрипартийная борьба практически сошла на нет, он все более укреплялся в мысли, что восторженноэкстатические манифестации суть единственно возможная форма «общения» с народом, хотя этот ритуал давно превратился во всем осточертевшую, отрепетированную принудиловку. Вот почему его так впечатлили парады и представления, устроенные в его честь в Китае и Северной Корее. Ему даже в голову не приходило, что эти страны могут быть не чем иным, как большими потемкинскими деревнями, созданными для втирания очков впечатлительным иностранным визитерам, хотя эта мысль явно посетила и обеспокоила Иона Илиеску, сопровождавшего Кондукатора в его азиатском турне.
Китайский визит был судьбоносным еще по одной причине: честолюбивая и беспринципная жена Мао, Цзян Цин, прониклась симпатией к Елене Чаушеску. Их судьбы внешне были очень различны. Путь Цзян Цин к вершине власти начался с должности разбитной киностатистки, готовой во имя карьеры спать со всеми шанхайскими киномагнатами, кто клюнул на ее несколько худосочные прелести. Однако карьера не удалась, и она нашла применение своим талантам в другой области, соблазнив Мао и став ему в сексуальном, эмоциональном и профессиональном плане незаменимой партнершей.
Несмотря на разность судеб, обе женщины были одинаково жестоки, необразованны, антиинтеллектуал ьны, привержены прямолинейным и примитивным идеям, гарантирующим быстрые результаты и не требующим глубокомысленных рассуждений, обе стали незаменимыми спутницами великих мужей. На извращенно-тоталитарный лад Цзян Цин была безусловной феминисткой, невероятно преуспевшей в сугубо мужском мире, и Елена, глядя на нее, воспылала желанием самой стать политически активной фигурой.
«Достижения» китайской культурной революции (с ее упором на «революционное перевоспитание», искоренение индивидуализма и старой символики) произвели глубокое впечатление на супругов Чаушеску. Конечно, проще всего посмеяться над впечатлительной четой, представив ее парочкой недоделанных сталинистов, принявших костюмированный кошмар за социальную революцию. Однако не следует забывать, что Николае и Елена были далеко не единственными странниками, очарованными «Великой китайской культурной революцией». В 1971 году ее восторженными сторонниками оказались не только западные студенты, художники и интеллектуалы, но даже некоторые всемирно известные китайские ученые вкупе с охапкой почтенных гарвардских профессоров.
Китайские впечатления лишь укрепили в Чаушеску его давнишние предрассудки — тот набор марксистско-ленинских мировоззренческих штампов, который, за неимением подходящего термина, можно условно назвать «идеей Чаушеску». Китай также наглядно подтвердил его твердое, но до сей поры тайное убеждение, что марксизм-ленинизм и национал-шовинизм могут идти рука об руку. Китайские достижения пробудили в Николае желание добиться большей экономической самостоятельности Румынии, а также навести больший порядок в этой расхлябанной латинской стране с ее неискоренимым пристрастием к индивидуализму и мудрствованию даже после многолетнего коммунистического управления. Образцы «социальной инженерии», явленные супругам Северной Кореей и Китаем, проливают свет на последующие политические нелепости Чаушеску; уже в который раз Кондукатор безоглядно хватался за чужие «чудодейственные» идеи ради скорейшей победы истинной революции, описанной в «Коммунистическом манифесте». Только с учетом этого азиатского турне 1971 года можно понять смысл его попыток «уравнения» города и деревни, т. е. слияния их в единую безжизненную антиэстетичес-кую «агропромышленную общину», или стремление изменить, облик Бухареста, взяв за образец бездушный симметризм Пхеньяна. Чаушеску хорошо помнил свой первый визит в Азию, когда в 1964 году, еще не будучи генсеком, он сопровождал Эмиля Боднэраша, приехавшего в Северную Корею и Китай для закупки оружия. Изменения, которые, по его словам,он наблюдал в Пхеньяне в 1971 году, были столь разительными, что казались почти неправдоподобными. Вот пример общественных преобразований, который надо взять на вооружение, невзирая ни на какие материальные и людские затраты.
Не успел Чаушеску вернуться в Румынию, как он недвусмысленно дал понять, что с этого момента начинается бесповоротный отход от реформаторских планов à la Дубчек, или, по словам опального в то время лидера Крестьянской партии Иона Рациу, «отступление от Праги». В начале июля Чаушеску провел несколько собраний партийной верхушки, где выдвинул ряд мер, названных в среде самих идеологов РКП «мини-культурной революцией». Меры предусматривали более жесткий, централизованный контроль за сферой культуры, образования и средствами информации, перемещение акцента на «массовую агитпропаганду», народные празднества и фестивали с преобладанием патриотической тематики и фольклорных танцев, упрощенные для всеобщего понимания театральные постановки и т. д. Западные «декадентские» формы развлечения — рок-концерты и дискотеки — были либо запрещены, либо урезаны до минимума, как, впрочем, и импорт зарубежных фильмов и книг. Особое внимание теперь уделялось самобытной истории Румынии как «уцелевшей нации», в тяжелой борьбе одолевшей всех иноземных завоевателей.
Вслед за этим последовали более суровые законы о печати. Одним из последствий закручивания «культурных» гаек стало смещение Илиеску с поста секретаря ЦК по культурным связям за его критику нового курса. Вряд ли можно считать простым совпадением и тот факт, что вскоре после возвращения супругов из Азии в «Скынтейе» появилась фотография Елены Чаушеску, в подписи под которой ее впервые называли не просто женой Николае, но «доктором инженерных наук Еленой Чаушеску, директором Центрального института химических исследований».
В последующие несколько месяцев спешно созданный Совет по социалистической культуре и образованию, подчинявшийся непосредственно ЦК, довершил процесс перехода под тотальный контроль партии всех средств массовой информации. Чаушеску и до поездки в Китай всегда пропагандировал популистский взгляд на культуру, неустанно напоминая своей послушной пастве, что в стране, стремящейся к построению «научного социализма», литература и искусство не могут себе позволить роскошь стать эзотерическими. По возвращении с Дальнего Востока он приказал всем театральным и издательским коллективам включать в свой состав «представителей от рабочих и крестьянских организаций». Это гарантировало надежную защиту как от любых авангардистских поползновений, так и от маломальской, даже завуалированной критики Чаушеску. В отличие от Польши и Германии, в Румынии не было мощной традиции сатирических театров-студий и кабаре, но бдительная Секуритате в любом случае в зародыше пресекла бы попытки такого рода.
С каждым годом петля затягивалась все туже. В начале 80-х годов обладателей пишущих машинок обязали зарегистрировать свои «орудия производства» в полиции и получить специальное разрешение на их хранение, иначе машинки конфисковывались без предупреждения и без права возврата. На государственных предприятиях, имевших множительную технику, были введены строжайшие до идиотизма ограничения на ее использование. В отличие от других стран Восточной Европы, Румыния не пережила самиздатовского бума. Индивидуальная закупка большого количества писчей бумаги могла запросто обернуться для покупателя доносом продавца магазина в Секуритате с последующим пристрастным дознанием. Всеобщая запуганность, ужас перед Секуритате обусловили полную покорность населения, под конец переросшую в глубокую апатию. Румыния не явила миру ни своего Сахарова, ни своего Вацлава Гавела, и почти никого из той славной диссидентской гвардии, которая в Польше, Венгрии, Чехословакии и Советском Союзе зажгла и пронесла сквозь темные 60—70-е годы факел духовной и политической свободы. Сказался также и румынский национальный характер, помноженный на специфические особенности режима Чаушеску, в том числе и на атмосферу всеобщей подозрительности и засилье стукачей. Тирания была всеобъемлющей, но победила она минимальными усилиями, во всяком случае в интеллектуальной среде; «исторический» разрыв между интеллектуальной верхушкой и остальным населением существенно облегчил задачу охранке.
Надо признаться, Чаушеску проявил куда большую изощренность, чем Мао или Ким Ир Сен, в усмирении тех, кто осмелился протестовать против его политики «мини-культурной революции». Хотя, как и следовало ожидать, новая культурная политика разъярила интеллектуальную элиту, Чаушеску весьма успешно погасил волну протестов, избрав — по крайней мере на первых порах — тактику уговоров и отеческой укоризны. По воспоминаниям Пауля Гомы, гнев, охвативший писателей, излился в бурных речах и яростных нападках на сторожевых псов культурной политики Чаушеску— Думитру Попеску, Думитру Гише, Василе Николеску, в чью задачу входило непосредственное осуществление директив Кондукатора. «Мы, как дети, специально проверяли, насколько далеко можно зайти, не получив шлепка,— рассказывал Гома.— Наши собрания в Союзе писателей по буйству и свободе самовыражения доходили почти до карикатурных масштабов. Мы оскорбляли этих шавок, мы обзывали их убийцами, могильщиками культуры, дерьмом. Они смиренно подставляли нам другую щеку. Помню, как после очередного собрания в Союзе, окончившегося чуть ли не потасовкой, я, выходя вместе с Гише, спросил его: «Ну что, вы уже вызвали «воронок»?» — «Отнюдь нет, товарищ,— ответил он.— Очень хорошо, что вы немного повыпускали пар. Внутри Союза можете болтать что угодно, но если вы, ребята, откроете рот за порогом этого здания, все будет совсем-совсем иначе».
Подобный же подход к «заблудшим овцам» распространялся (правда, в несколько меньшей степени) и на саму партию. Внутри ЦК и его подкомитетах негласно действовал принцип «парламентской неприкосновенности». Илиеску был смещен с должности и переведен на худшую работу, но его не арестовывали, не допрашивали и не преследовали. Чаушеску инстинктивно понимал, что такая слегка двусмысленная форма репрессии наиболее эффективна в румынских условиях. Даже в последние годы, когда Кондукатор был в состоянии, близком к клиническому безумию, он все же не терял инстинкта самосохранения. После своего поразительно смелого шага, прямо-таки вызова, брошенного Чаушеску в 1977 году, Гома ожидал карательных мер. Причину сравнительно мягкой реакции Секуритате на его проделку писатель усматривал в нежелании Чаушеску ссориться с Джимми Картером, с которым у него установились теплые отношения и который был убежденным сторонником прав человека. Конечно, годы, предшествовавшие декабрьской революции 1989 года, были отмечены и гнусными расправами, и избиениями, и даже несколькими случаями насильственной депортации мятежных шахтеров и профсоюзных деятелей. Но эти жестокие меры проводились выборочно, с целью посеять страх в душах людей, так сказать «убить цыпленка ради устрашения обезьяны». Репрессивность режима стремительно возрастала, но апологеты Чаушеску не без основания утверждали, что в Румынии политических заключенных куда меньше, чем в Югославии. Как неоднократно повторяли румынские интеллектуалы после декабря 1989 года, «Георгиу-Деж был более жесток и чаще прибегал к лагерям, тюрьмам и военным трибуналам, но Чаушеску пас нас куда лучше».
Еще одна радикальная мера, принятая Кондукатором по возвращении в Румынию в конце июня 1971 года, касалась областной партийной и государственной администрации. С этого момента районные партсекретари и их аппарат были посажены на весьма короткий поводок. Цель была достигнута посредством неожиданных служебных перемещений, которые следовали столь быстро и непредсказуемо, что ни один чиновник не был уверен, что он просидит в служебном кресле дольше двух-трех ,месяцев. Чехарда назначений в среднем эшелоне партийной власти напоминала известную басню про квартет и осуществлялась по прихоти Кондукатора, а после 1979 года — его жены. В этой, на первый взгляд, совершенно параноидальной сумятице передвижек, несомненно, присутствовала некая скрытая логика. Чаушеску, очевидно, опасался, что долгое пребывание на одном месте позволит партийному чиновнику создать собственную опору власти и с течением времени больше прислушиваться к нуждам местного населения, нежели к его, Чаушеску, директивам. Подобная кадровая политика принесла, разумеется, не предусмотренные реформатором результаты: по мере углубления экономического кризиса произвол и коррупция местных властей возрастали, ибо краткосрочность владычества лишь разжигала их аппетит.
Закручивание гаек не ограничилось идеологической сферой. На июльском партийном съезде 1972 года Чаушеску стал устанавливать непомерно высокие темпы роста для промышленного и сельскохозяйственного производства. Что еще прискорбней, желаемого предполагалось достичь не путем увеличения капиталовложений, но путем более интенсивного использования уже существующих ресурсов. И опять-таки стимулирование посредством кнута и пряника не носило на первых порах откровенно репрессивного характера; лишь постепенно, с развалом экономики жизненный уровень населения стал угрожающе падать. Введение на предприятиях сдельной оплаты, призванной сократить прогулы и безделье и вознаградить трудолюбивого работника, было сведено на нет дурацкими законами о «распределении прибыли», фактически вводившими в заводскую организацию труда элементы средневекового крепостничества. Рабочие в первые пять лет работы на заводе были, по существу, привязаны к своему месту, поскольку в этот период половина их «доходов» держалась на замороженном банковском счете. Если рабочий уходил с завода, он терял свои сбережения, и в то же время государство в любой момент могло перевести его на другой завод без его согласия и без какой-либо компенсации.
Непреклонная верность Чаушеску принципам сталинской экономики и в высшей степени своеобразное претворение их в жизнь неизбежно повлекли за собой катастрофу. Следует скорее удивляться, как долго ему удавалось скрывать свои промахи. Революция 1989 года произошла бы намного раньше, не будь у Кондукатора двух могущественных покровителей: международных банковских консорциумов и поддержки (до 1979 г.) иранского шаха. Банки буквально сражались друг с другом за честь предоставить кредиты храброй маленькой Румынии, не побоявшейся дать отпор самому Советскому Союзу, а шах преподнес Чаушеску поистине бесценный подарок в виде бартерного соглашения на иранскую нефть по твердым ценам. Но займы, вкладываемые в румынское производство, рождали такую устаревшую и низкокачественную продукцию, что ни одна развитая страна и смотреть на нее не хотела, а низвержение шаха привело к коренному пересмотру иранского договора. С 1979 года Румынии пришлось расплачиваться за нефть валютой по мировым ценам, а заводы, построенные на банковские кредиты, были весьма энергоемкими предприятиями. Один алюминиевый комплекс в Слатине потреблял столько же энергии, сколько весь Бухарест.
Стремление Чаушеску развивать нефтеперерабатывающую промышленность тоже потерпело неудачу: к 1979 году огромные капиталоемкие комбинаты вырабатывали лишь 10% своей мощности. К другим печальным экономическим ошибкам можно приплюсовать и строительство Дунайско-Черноморского канала, в результате оказавшегося ненужной роскошью, а также дорогостоящих автострад, ставших памятниками неосуще-ствившегося материалистического рая, ибо к 80-м годам в связи с жесточайшим топливным кризисом бензин был нормирован, а частные машины почти повсеместно запрещены.
И Оливия Мэннинг в 1939 году, и Айвор Портер в 1944-м отмечали богатство и многочисленность румынских продуктовых рынков, а также изобилие высококачественных и дешевых овощей. Постепенно в Румынии стала сворачиваться и эта отрасль производства, ибо, верный сталинской ортодоксии, Чаушеску ввел твердые государственные цены даже на продукты, выращенные в личном подсобном хозяйстве. Положение ухудшилось до такой степени, что в 1981 году впервые после войны вновь пришлось вводить хлебные карточки, а «утаивание» продуктов стало серьезным уголовным преступлением. Рабочим, жившим в пригородах, запрещалось покупать еду в городе, в котором они работали. Жесточайшая нехватка продуктов, породившая многочасовые очереди и, как следствие этого, прогулы, была сама по себе вещью малоприятной. Но куда более оскорбительными для людей были беспрестанные лекции Чаушеску о сбалансированном диетическом питании и его причитания по поводу того, что «румыны слишком много едят». Если верить бумаге, дела в Румынии обстояли просто превосходно; согласно статистике, в стране наблюдался ежегодный количественный рост всех видов сельскохозяйственной продукции. Официальные цифры были дутыми по многим параметрам, поскольку базировались на количестве произведенного, а не потребляемого продукта, тогда как с конца 70-х годов подавляющая часть высококачественных пищевых товаров экспортировалась за рубеж для покрытия огромных внешних задолженностей Румынии. Статистические данные по пищевой промышленности в своей правдивости соперничали с цифрами покупательского спроса на собрания сочинений Чаушеску. Как чистосердечно поведал после смерти Чаушеску его бывший «культурный цербер» и бывший директор книжного издательства «Хуманитас» Думитру Гише, «все экземпляры собрания сочинений Николае Чаушеску, едва поступив на прилавки, должны были в обязательном порядке быть распроданы». Члены партии, целые заводы и учреждения безоговорочно приобретали книгу в качестве дополнительного подушного налога. «Процент раскупаемости трудов Чаушеску стремительно возрастал с каждым годом, и так продолжалось до 1989 года»,— рассказывал Гише.
Последнее тягчайшее оскорбление народ перенес в 1985 году, когда Чаушеску разработал для него идеальную «научную» диету, согласно которой каждому румыну (по крайней мере, на бумаге) ежегодно полагалось по 54,88 кг мяса, 114 яиц, 20 кг фруктов и овощей, 45,3 кг картофеля, 144,5 кг муки, 14,8 кг сахара, 9,6 кг сливочного и животного масла, 1,1 кг маргарина. Разумеется, действительный рацион был несравненно ниже идеальных цифр, и румыны без особой радости наблюдали по телевидению ломящиеся от яств столы, когда клан Чаушеску праздновал какой-нибудь очередной день рождения.
Сами же супруги Чаушеску с середины 70-х годов были крайне озабочены проблемой калорий. Чувствуя, что полнеет, Елена в начале 70-х годов села на жесткую диету, ее примеру вскоре последовал и Николае, который, к слову сказать, был неприхотлив в еде. Он любил простую крестьянскую пищу, вполне довольствуясь закуской из помидоров, овечьего сыра и зеленого лука. Все продукты для Чаушеску поставлялись со специальной, «органически чистой» фермы, при трапезе обязательно присутствовали диетолог и.дегустатор. Даже в зарубежные поездки супруги отправлялись с собственным провиантом, который за сутки до подачи на стол проверялся в лаборатории. Николае и Елена почти всегда завтракали вдвоем, без гостей, и за столом Елена, как обычно, невыносимо занудствовала. Бывший управляющий рассказывал, что она никогда не была довольна принесенной едой. «Когда я сама готовила мужу шпинат, он был гораздо вкуснее»,— зудела она, а Чаушеску похлопывал ее по руке и бормотал: «Не надо, дорогая, не надо».
Истерики и тиранство Елены по отношению к многочисленной домашней обслуге вошли в легенду. На громадной вилле Фоишор 5, где Чаушеску приказал пристроить 15-ти комнатный флигель, в котором они никогда не жили («потому что Елена не выносила запаха краски»), она запихивала под ковер и в углы шпильки, чтобы проверить, насколько тщательно убираются слуги. Очевидно, Николае все же осознавал, какие муки приходится терпеть обслуживающему персоналу по их вине. Однажды, гостя в Болгарии у Тодора Живкова, он и все тот же управляющий стали свидетелями безобразной сцены, когда дочь Живкова, нещадно матерясь, устроила выволочку одному из слуг. Чаушеску не сдержал своих чувств (что случалось весьма редко) и прошептал на ухо управляющему: «Ну вот, а вы считаете нас невыносимыми».
Если воспользоваться ритуальной фразеологией наемных писак, вроде Георге Иордаке или поэта с явным антисемитским душком Корнелиу Вадима Тудора, годы правления Чаушеску были «светоносными годами». Данная фраза стала расхожей шуткой, когда ради экономии топлива урезали нормы расходования электричества и горячей воды, запретили холодильники и пылесосы, квартиры зимой едва отапливали и продавали только 40-ваттовые лампочки (специальные инспекции зорко следили за тем, чтобы соблюдалось правило «одна комната — одна лампочка»).
Ко всем этим неудобствам румыны привыкли и, в общем, смогли бы их как-нибудь пережить. Хуже всего было то, что из-за внезапного отключения электричества шахтерам приходилось в кромешной тьме вылезать из шахт по приставной лестнице, а хирургам — отменять в последний момент операцию. Еще ужасней были судьба несчастных младенцев, когда отключалась аппаратура, поддерживающая их жизнь, удел пациентов, когда останавливалось искусственное дыхание, перспективы людей старше 60-ти лет, которым отказывали в серьезном хирургическом лечении и обрекали на смерть, положение беременных женщин, которых подвергали унизительным осмотрам, чтобы не допустить абортов. Разумеется, с теми, кто обладал партийными связями, обращались иначе. Румыны обо всем этом знали, но, как выразилась племянница Чаушеску Надя Бужор, «слова не имели никакой связи с нашей действительностью. Была жизнь, каковой она должна быть, и жизнь как она есть».
Красноречивый пример перерождения РКП в бездумную «клаку» продемонстрировал партийный съезд 1979 года. В последний день его работы председатель призвал к единодушному голосованию за переизбрание Николае Чаушеску на пост генерального секретаря. Тут неожиданно встал тщедушный старичок, 84-летний коммунист с немыслимым стажем Константин Пырвулеску, и закричал, что он уже который раз просит слова, но его намеренно игнорируют. Председатель возразил, ссылаясь на завершение дискуссий, но Чаушеску произнес: «Пусть говорит».
Пырвулеску подошел к трибуне. «Вчера,— произнес он,— вы позволили этому шуту Пэунеску невесть сколько торчать на трибуне. Что я, хуже него, что ли?» И объявил, что будет голосовать против кандидатуры Чаушеску: «Я поражен подготовкой этого съезда. Он был созван лишь для того, чтобы переизбрать Чаушеску. Ни одна из насущных проблем страны здесь не обсуждалась».
По знаку Елены Чаушеску весь съезд единодушно поднялся и принялся неистово аплодировать Кондукатору. Некоторые делегаты выкрикивали в адрес Пырвулеску оскорбления, но тот отвечал им убийственным презрением, повторяя: «Я не буду голосовать за Чаушеску». Один из операторов румынского ТВ записал этот эпизод на пленку, но его никогда не транслировали по ЦТ и в официальном отчете о работе съезда даже не упомянули. Смелое одинокое противостояние Пырвулеску было тем более поразительным для многих партийных «реформаторов», что все хорошо помнили его прошлое. Как подчеркнул профессор Ар-деляну, фигура Пырвулеску всегда ассоциировалась с советским вариантом коммунизма. В 1917—1920 годах Пырвулеску служил добровольцем в Красной Армии, затем в течение долгого времени учился в Советском Союзе. Его откровенно просоветская ориентация обнаружилась в 1958 году, когда он, единственный из всего ЦК, убеждал Георгиу-Дежа не просить Хрущева о выводе советских войск из Румынии.
То, что произошло позже, наглядно показывает как степень, так и пределы мстительности Чаушеску. Он изгнал мятежника из большой благоустроенной квартиры и поселил в убогой клетушке в маленьком провинциальном городке, вдобавок посадив его под домашний арест. Когда по западнегерманскому телевидению показали позорное поведение делегатов съезда, Чаушеску пришел в ярость. Оператор, на которого пало подозрение в передаче пленки за границу, был уволен и тоже попал под наблюдение Секуритате. Однако неукротимый Пырвулеску остался жив: выступая, вскоре после смерти Чаушеску, по румынскому ТВ, он рассказал, что был чрезвычайно смущен, когда присутствовавший на съезде представитель Советского Союза демонстративно пожал ему руку. Меры, принятые Чаушеску в отношении вероотступника, показывают, что хотя Кондукатор крайне болезненно реагировал на критику, он все-таки предпочитал запугивание уничтожению. Трусость румынского истеблишмента была такова, что Пырвулеску в одночасье превратился в парию; ходили даже слухи (возможно, распространяемые самой Секуритате), что его «пустили в расход». История с Пырвулеску не получила большого международного резонанса: из всех газет, пожалуй, только «Монд» уделила инциденту пристальное внимание. По нашему мнению, гораздо важнее, нежели сам факт показательной расправы Чаушеску с «еретиком», была реакция на это событие политически «просвещенного» класса. В Восточной Германии или Чехословакии Пырвулеску мог стать символом сопротивления, в Румынии он просто канул в небытие.
Политическая пассивность номенклатуры и «спецов» не устает поражать исследователей этой эпохи. «По всем важным государственным проблемам Чаушеску и его жена принимали единоличное решение, без предварительного обсуждения с нашим коллективом (т. е. Исполнительным комитетом),— рассказывал Эмиль Бобу, ныне отбывающий пожизненное заключение.— Они говорили: «Это должно быть так», и не допускали никаких возражений. Человеку, не связанному с ними родственными узами, практически невозможно было переубедить их в чем-нибудь» 6.
Но даже многие члены семьи не находили с ними общего языка. «Временами мне казалось, что единственные, кто осмеливается им возражать, это Нику и я,— рассказывала Зоя Чаушеску после выхода из тюрьмы в 1990 г.— Я тщетно пыталась им втолковать, что в городе стоят огромные очереди за продуктами. Они и слушать меня не хотели».
Об этом же писали Дэвид и Шейла Ротманы в «Нью-Йорк ревью оф букс»: «Мы спросили, выступали ли когда-нибудь ведущие представители румынской медицины против гинекологических проверок или, на худой конец, критиковали ли они жестокие меры, принятые Чаушеску в отношении здравоохранения. Никто не мог припомнить подобных случаев».
Нельзя не поразиться, как долго за рубежом не замечали и культ личности Чаушеску, и рабское поведение членов РКП, правительства и администрации, и то, как много среди апологетов Кондукатора оказалось западных политиков, бизнесменов, писателей, журналистов, а ведь некоторые из них обладали высокой репутацией. Возможно, тем, кто был связан денежным интересом с Румынией, поневоле приходилось копировать своих румынских партнеров, но оглядываясь назад, небезынтересно понаблюдать, как далеко заходили они ради «сердечных отношений», т. е. коммерческих прибылей. Лорд Гарольд Вильсон, связанный с британской компанией «Линделбурн лтд», которая вела крупные торговые операции с Румынией, не упускал случая поздравить Чаушеску с днем рождения б самых выспренних выражениях. В 1987 г. он направил ему телеграмму, где говорилось, что «только тот, кто сам познал все тяготы руководства, может по достоинству оценить содеянное вами. Вы заставили румынский народ играть исключительную по своей важности роль в мировом сообществе». В 1988 году, когда международная репутация Чаушеску уже упала до предела, Вильсон написал ему, что «с нетерпением ожидает продолжения дружеских отношений». Когда Джон Симпсон, главный редактор Би-би-си по международным делам, впервые (в разгар революции 1989 года) был допущен со съемочной группой в кабинет Чаушеску, ему в качестве назидания вручили дорогостоящую «монблановскую» ручку — дар Кондукатору от британской партии лейбористов. Само собой разумеется, из стана лейбористов сразу же поступило официальное опровержение, что, однако, не произвело должного впечатления на Симпсона, ибо ручка все еще находилась в подарочном пенале с дарственной надписью.
‘ Не было недостатка в апологетах и среди зарубежных писателей и журналистов. В 1983 году, т. е. в период ужасающих лишений для страны, в книге (написанной анонимным английским автором, но субсидированной румынской стороной) под названием «Чаушеску: за мир и еди(%:тво Европы» утверждалось: «Президента Чаушеску, неустанно пекущегося о благополучии своего народа, заботящегося о снабжении населения всеми необходимыми товарами, об улучшении работы торговли и сферы обслуживания, стремящегося к стабильности цен, можно часто встретить в различных торговых центрах города,— то на открытии нового магазина, то на инспектировании качества рыночных продуктов. Пользуясь случаем, Николае Чаушеску выслушивает жалобы и предложения людей и по возможности принимает экстренные меры для дальнейшего улучшения их жизни. При виде этого каждый честный и здравомыслящий гражданин проникается еще большей уверенностью, что для президента Чаушеску главной и конечной целью построения нового общества в Румынии являются человек и его интересы, удовлетворение его духовных и материальных потребностей, реализация его идеалов прогресса и цивилизации» 7.
А как реагировать на тошнотворно раболепную биографию Чаушеску, написанную журналистом Мишель-Пьером Амле, сотрудником консервативной французской газеты «Фигаро», или на его еще более тошнотворную книгу «Истинная Румыния Чаушеску» (1983 г., изд-во «Нагель», с предисловием президента французского сената Алена Поэра), где со ссылкой на официальную статистику прославляются гармонические взаимоотношения рабочих с государством? Или откроем биографию Чаушеску, выпущенную Робертом Говендером в 1988 г., которая начинается словами:
«В Румынии наблюдается феноменальный прогресс как во внутренних, так и во внешних делах… Это одно из наиболее знаменательных достижений нашего времени… Чаушеску сократил военный бюджет и сэкономленные деньги направил на укрепление детского здравоохранения».
В действительности румынские страховые пособия были самыми низкими в Европе (если не считать Албании), и все румынские министры здравоохранения безуспешно пытались убедить Чаушеску увеличить бюджет на социальные нужды. Прока делал попытки продлить послеродовой отпуск матерям с 3-х до 6 месяцев, но Чаушеску не внял просьбам. Румынские врачи, стремясь помочь пациентам, всеми правдами и неправдами нарушали драконовские законы, и Чаушеску однажды пожаловался Проке, что в больницах существует тайная круговая порука, и врачам удается обойти закон, запрещающий аборты, путем расширения списка болезней, якобы угрожающих жизни будущих матерей. «Это правда,— сказал Прока,— мы, врачи, старались изо всех сил». Но супруги Чаушеску, особенно Елена, были чрезвычайно бдительными. Они считали, что все кругом стремятся их обмануть.
Румыны, продолжает Говендер, «знают, что имеют право на хорошее медицинское обслуживание, право на страховые пособия по болезни, по охране материнства и детства. Это исконные привилегии каждого румынского гражданина… XX век небогат великими и ответственными государственными деятелями, но хорошо, что все же можно найти несколько человек, которые не забыли, что стремление к счастью в условиях безопасности, дружелюбия и процветания является неотъемлемым правом каждого. Вряд ли кто станет возражать против того бесспорного факта, что имя, стоящее в первом ряду этой избранной когорты гигантов международной политики,— Николае Чаушеску».
Цитируя слова Чаушеску о «новой человеческой личности», которую стремится выковать общество, личности, «всецело поглощенной идеей созидания, сочетающей в себе чувство глубокой ответственности за судьбу страны, высокие нравственные качества и богатую духовную жизнь», Говендер поясняет, что румынские средства массовой информации призваны «служить общему делу народа и интересам нации. Нашему,обществу, вскормленному на дешевых сенсациях и светских сплетнях, рядящихся под новости, трудно следовать румынскому примеру». Это, однако, без видимого труда удалось Роберту Максвеллу, чье интервью с Чаушеску, помещенное в конце книги, вышедшей в издательстве «Пергамон пресс», начинается вопросом или, скорее, утверждением: «Уважаемый г-н президент, вы занимаете самый высокий политический и государственный пост в Румынии на протяжении почти 18 лет, с чем мы вас искренне поздравляем. Скажите, что, по вашему мнению, обеспечивает вам такую популярность в румынском народе?»
Еще поразительнее было письмо ныне покойного Мервина Стоквуда, в то время епископа Саутворкского, опубликованное в лондонской «Таймс» накануне официального визита Чаушеску в Великобританию в 1978 году. Он писал: «Как бы мы ни относились к коммунистическим принципам экономики, нельзя не заметить явного повышения жизненного уровня с приходом к власти г-на Чаушеску. Налицо очевидные улучшения в жилищном вопросе, образовании и здравоохранении».
Воздав хвалу храбрости Чаушеску, выступившему против советского вторжения в Чехословакию, епископ коснулся щекотливых тем религии и прав человека.
«Начем с прав человека. Да, румын, прежде чем вступить в открытую конфронтацию, семь раз отмерит. Но не следует забывать, что эта страна не обладает многолетней традицией неограниченной свободы. Нынешнее коммунистическое правительство часто использует методы, для нас, британцев, совершенно неприемлемые, которые, однако, мы сами успешно применяли в прошлом… Права человека означают для нас прежде всего свободу передвижения, а для румын получение выездной визы — дело крайне непростое. Когда я поднял этот вопрос в официальных кругах, то получил следующий ответ: «Вы в Великобритании тратите тысячи фунтов на обучение врачей и хирургов и потом позволяете им уезжать в Соединенные Штаты, где платят лучше. Что ж, дело ваше, но мы не можем себе этого позволить. Мы тратим кучу денег, чтобы профессионалы служили нашей стране, а не США». Даже если признать правоту этих слов, то все равно в Румынии существует еще много ненужных и раздражающих ограничений. Следовало бы, наверно, разрешить западным гражданам, имеющим друзей в Румынии, беспрепятственно гостить у них, и наоборот.
Жесткие меры применяются также и в отношении хулиганства и насилия. «Мы стремимся создать лучшую жизнь для наших людей. Мы не хотим, чтобы эти антисоциальные элементы уничтожали плоды нашего труда». Что же считать правами человека, когда дело касается искоренения или пресечения зла во имя интересов большинства, во имя предотвращения еще большего зла? На этот вопрос нет простого ответа…
Что же касается проблемы религии, то, хотя Румыния и считается марксистским государством, она остается глубоко религиозной страной. Говорят, что половина населения, большинство из которого составляют православные, по воскресеньям посещает церковь. Переполнены не только церкви, но и духовные семинарии. Отношение правительства к религии двойственное: хотя все религии официально отвергаются и в школах прививается атеистический взгляд на мир, государство тем не менее (по английским стандартам) чрезвычайно великодушно к православной церкви и вообще ко всем верованиям. Оно повышает зарплату священникам, оно помогает реставрировать старые храмы и возводить новые».
Тот факт, что в Румынии Рождество было рабочим днем и что румынское МИД настоятельно просило иностранных дипломатов в Бухаресте посылать румынским знакомым и коллегам поздравления только с Новым годом («чтобы не оскорблять президента Чаушеску»), очевидно, прошел мимо сознания епископа Стоквуда. Вдобавок к сомнительным утверждениям и двойной нравственной бухгалтерии Стоквуд оказался не в состоянии разграничить преследования католической церкви в Румынии (не только во времена советской оккупации, но и гораздо позже) и сугубо доверительные, даже интимные отношения Чаушеску с румынской православной церковью. МИД Румынии, ответственное за кадровую и финансовую политику церкви, неизменно выдвигало благонадежных церковников на ключевые посты и использовало их (в союзе с Секуритате) для вербовки сторонников режима Чаушеску в румынских религиозных общинах в США и Канаде. Многие из эмигрировавших православных румынских священников были убежденными антикоммунистами, некоторые из них симпатизировали старой «Железной гвардии» 8, однако и те и другие оказались удивительно легкой добычей для сладкоречивых коллег с родины, восхвалявших Чаушеску до небес и утверждавших, что он националист и «наш человек». Таким способом, подчеркнул Ион Пачепа (шеф румынской иностранной разведки, эмигрировавший в 1978 г.), Секуритате внедрила своих агентов во многие румынские православные общины за рубежом.
Следует отметить, что мощная секретная полиция была характерна и для довоенной Румынии. Георгиу-Деж расширил ее функции, превратив Секуритате в инструмент государственного управления. В то же время он привлек в ее ряды старых коммунистов, многие из которых вышли из среды интеллигентов. По мере обострения проблем внутри страны Чаушеску все больше опирался на Секуритате не только как на сторожевого пса режима, но и как на экономическую силу, способную поддержать бюждет. Жизненный опыт Чаушеску сделал его приверженцем «конспиративной теории» исторического развития, и Секуритате успешно подогревала эту параноидальную идею. В глазах простых румын тайная полиция представала всевидящим, всезнающим многоруким монстром, следящим за каждым мигом их жизни. Не нужно, однако, впадать в ошибку, приписывая все зигзаги политики Кондукатора исключительно деятельности Секуритате. Его провалы во внутренней политике лишь потому так долго игнорировались или замалчивались, что на международной арене он обнаружил глубокое понимание расстановки сил. Его мировоззрение было деформированным, отношение к людям крайне презрительным, вера в сталинскую систему незыблемой, но он блистательно эксплуатировал «диссидентский» имидж Румынии, ухитряясь мирно сосуществовать и с арабами, и с израильтянами, обольщать и капиталистов, и новых лидеров третьего мира. И лишь тогда, когда Советский Союз сбросил оковы многолетнего оцепенения, Чаушеску мгновенно и безнадежно устарел.
Роковые соблазны
До чего же все-таки прекрасна международная жизнь! Стоит только вспомнить визиты: аэропорты, приветствия, каскады цветов, объятия, оркестры, расписанный по минутам протокол, и затем – лимузины, приемы, уже готовые и переведенные тосты, блистательные празднества, чествования, конфиденциальные разговоры, глобальные темы, этикет, роскошь, подарки, челядь, и, наконец, к концу дня, усталость, да, усталость, но какая восхитительная и умиротворяющая, какая возвышенная и почетная, благородная и заслуженная, какая подлинно международная!
Рышард Капусцинский. «Император».
В 1978 г., накануне визита Чаушеску в Великобританию, генерал Ион Пачепа сбежал в Америку. Это предательство было, пожалуй, самым большим потрясением для Чаушеску до его собственного унизительного побега 22 декабря 1989 г. и последующего ареста. Будучи главой Управления зарубежной информации, Пачепа имел неограниченный доступ к Чаушеску и виделся с ним почти каждый день. УЗИ, независимая от Секуритате и отчасти даже соперничающая с ней организация, занималась грязными делишками, была вербовочным центром и разведывательным органом, осуществлявшим анализ всех аспектов международной жизни. Хотя, подобно ЦРУ и английской разведке, в задачу УЗИ не входил контроль над внутренними делами, управление, однако, осуществляло слежку за румынской зарубежной диаспорой, вербуя агентов не только за границей, но и дома. Сам Пачепа был крайне опытным аналитиком, и его побег оказался для Чаушеску ударом, от которого тот никогда полностью не оправился. В одну ночь вся агентурная сеть была свернута, офицеры контрразведки уволены или отправлены на пенсию, а их места заняты значительно менее квалифицированными сотрудниками из Секуритате, многие из них даже плохо знали язык страны, к которой их приставили.
Возможно, что многодневное дознание, проведенное в отношении Пачепы в Соединенных Штатах, выявило большое количество ценного материала о международной деятельности УЗИ, но книга беглеца «Красные горизонты» (1987) крайне разочаровала многих профессионалов, несмотря на все ее сенсационные откровения об образе жизни и привычках супругов Чаушеску. Написанная деревянным языком бульварной журналистики, книга представляла собой ежедневную, почти ежеминутную хронику деятельности Пачепы за последний месяц (март 1978) перед бегством в Америку. Книга также изобиловала кулуарными подробностями о жизни четы Чаушеску, преподнесенными в таком карикатурно-скабрезном виде, что супруги казались не реальными людьми, а классическими негодяями из фильмов о Джеймсе Бонде. Елена Чаушеску представлена в книге эдакой ненасытной сексуальной хищницей, беспрестанно тянущей Николае в постель, смакующей снятые скрытой камерой фильмы о законных и незаконных любовных утехах высокопоставленных чиновников, поглощающей икру и шампанское, равнодушной ко всему, кроме норковых шуб и почетных докторских степеней. Чаушеску рисовался бессовестным шарлатаном, погрязшим в темных делишках, вроде шантажа «сексуальным компроматом» зарубежных дипломатов или подпольной добычи технологических секретов и их продажи за валюту Советскому Союзу.
Безусловно, шпионство и накопительство были излюбленным занятием обоих Чаушеску, но Пачепа настолько упрощал их характеры, что невольно напрашивался законный вопрос (так, впрочем, и оставшийся без ответа) о личности самого рассказчика. Не являлась ли книга грубо сработанной, инспирированной ЦРУ пропагандистской фальшивкой? Весь опус был настолько карикатурен, что приведенные в нем портреты супругов оставляли впечатление неправдоподобия. Возможно, одна из причин такого несоответствия заключалась в чрезмерно подробной реконструкции бесед Елены и Николае с их подручными. (Это все равно что написать историю правления президента Никсона, пользуясь только магнитофонными записями Уотергейта.) Другой недостаток книги в том, что Пачепа описал лишь собственные встречи с Чаушеску, которые естественным образом концентрировались вокруг обсуждения проблем шпионажа и грязных политических махинаций, то есть специализации самого Паче-пы. Нетрудно предположить, что помимо этих вопросов Чаушеску занимали и другие сферы государственного управления, однако в «Красных горизонтах» об этом нет ни слова. И, наконец, при всем пафосе срывания всех и всяческих масок, Пачепа о себе самом хранит целомудренное молчание. Хотя понятно, что вряд ли он мог стать во главе румынской разведки, не предъявив известному своей подозрительностью Кондукато-ру веских доказательств беспредельной надежности и верности, Пачепа весьма деликатно обходит стороной собственное прошлое.
Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что вопреки всем темным сторонам личности Чаушеску, столь подробно описанным в «Красных горизонтах», внешний мир относился к нему серьезно, считая его (после Хрущева и Брежнева) третьим по значению лицом в европейском коммунизме, по популярности превзошедшим даже Тито. Ни один лидер коммунистической державы не мог соперничать с Чаушеску по числу зарубежных визитов как на Запад, так и в страны третьего мира. Отчасти это объяснялось тем, что с 1965 г. Румыния стала театром одного актера, а поскольку Чаушеску рассматривал дипломатию как искусство личных контактов, то он выбрал амплуа неутомимого путешественника. Этому способствовала и его ненасытная жажда международного признания, которая, кстати, заодно помогла ему внушить румынам представление о его величии и доказать самому себе, что он заслуживает особого статуса Кондукатора.
Главы государств, встречавшиеся с Чаушеску с начала 1970-х гг., отмечали разительные изменения, происходившие с течением времени в характере Николае и Елены. Жискар д’Эстен рассказывал, что во время первого официального визита Кондукатора в Париж Чаушеску произвел на него скорее «среднее», нежели «плохое» впечатление. В 1978 г., когда Чаушеску в последний раз приехал во Францию, он показался президенту «отвратительным, чванливым, закосневшим в самоуверенности и чувстве незыблемой правоты». В 1979 г., во время ответного визита Жискар д’Эстена в Румынию, его негативное впечатление лишь усилилось: «Создавалось впечатление, будто он думал, что имеет дело с коррумпированными идиотами». Особенно позабавила Жискар д’Эстена и его жену Анн-Аймон одна фарсовая сцена. Когда они прибыли в бухарестскую резиденцию для высокопоставленных гостей, у ворот их приветствовала небольшая группа людей, кричавших «Ура! Ура!». Затем, когда они приехали в Сибиу и остановились в бывшем королевском дворце, их встретила криками «Ура!» другая группа, в которой, однако, д’Эстены узнали тех же самых людей, очевидно, привезенных для этой церемонии из Бухареста на автобусах.
Необходимо, однако, отметить, что несмотря на всю свою сталинскую риторику и интеллектуальную немощность, Чаушеску все-таки обладал проницательностью в международных делах или, по крайней мере, мог внушить даже таким людям, как де Голль и Никсон, что обладает ею. Его идеи национальной независимости (хотя в основном и заимствованные) позволили Румынии на протяжении почти двух десятилетий играть роль, не свойственную обычно таким маленьким государствам. Еще в июне 1966 г. он призвал распустить НАТО и Варшавский пакт, его проект о Балканской безъядерной зоне получил сочувственную поддержку греческого премьер-министра Андреаса Папандреу. Хотя его интерес к ближневосточной проблеме был сугубо эгоистическим, к его мнению с одинаковым вниманием прислушивались арабы, израильтяне и западные государственные деятели. Он занял мудрый нейтралитет, отказавшись одобрить или осудить вторжение СССР в Афганистан (при голосовании в ООН Румыния была среди воздержавшихся). Он извлек Значительные выгоды из бойкотирования советского вето на участие в Олимпийских играх 1984 г. в Лос-Анджелесе. Как писал бывший посол Фандерберк: «Румыны стали истинными героями в глазах американцев как раз в тот момент, когда Чаушеску уже сближался с Советами, все больше попирал права человека и разворачивал антирелигиозную кампанию». По его словам, госдепартамент, упрямо деливший коммунистических лидеров на «плохих» и «хороших», ничего не хотел знать об этом. Это особенно разозлило Фандерберка, потому что и показания Пачепы, и его собственные надежные источники подтверждали тот факт, что решение Чаушеску послать команду в Америку делалось с полного, хотя и молчаливого, согласия Советского Союза, которому, очевидно, было выгодно представление о Румынии как о «диссидентском», независимом коммунистическом государстве.
Но несмотря на все разоблачения Пачепы относительно двойной игры Чаушеску с Арафатом и СССР, всеми его действиями руководило, в первую очередь, амбициозное желание оставить неизгладимый след в истории и добиться международного признания путем урегулирования ближневосточного конфликта с помощью добрых советов. Между прочим, настойчивые и безрезультатные попытки Чаушеску убедить Арафата в необходимости создать палестинское правительство в изгнании на поверку оказывались не такими уж и бессмысленными. Было даже нечто трогательное в том, с какой одержимостью Чаушеску стремился доказать, что это он, а не Джимми Картер является главным посредником в ближневосточных делах.
Западный мир не особенно обольщался по поводу оборотной стороны личности Чаушеску. Даже внутри коммунистического блока его маниакальный страх перед покушением и принимаемые меры безопасности вызывали веселую насмешку. Дегустаторы и персональные повара, пользование собственными постельными принадлежностями (даже в Букингемском дворце), неспособность поддерживать светский разговор и настороженная официальность в отношениях делали супругов никудышными гостями. «Главы государств и правительств,— сказал Жискар д’Эстен,— расценивали визит Чаушеску как неизбежное стихийное бедствие».
Жискару пришлось пережить подобное бедствие дважды. В первый раз, после визита Чаушеску в Париж (1978 г.), французские чиновники, ответственные за прием государственных лиц, в ужасе обнаружили в Марли, временной французской резиденции Чаушеску, ужасный разгром — вырванные из стены электрические и телефонные провода (очевидно, это сделали охранники из Секуритате в поисках подслушивающих устройств). Вдобавок оказалось, что президентская рать прихватила с собой часть домашней утвари — часы, пепельницы, эстампы и прочие плохо лежавшие предметы. При последовавшей за этим встрече с королевой Елизаветой Жискар д’Эстен, зная о предстоящем визите Чаушеску в Букингемс-кий дворец (июнь 1978), предупредил Ее Величество о привычке румынской правительственной делегации прихватывать с собой все, что умещается в чемодане. Он счел своим долгом предупредить и короля Хуана Карлоса, ибо супруги Чаушеску намеревались вскоре посетить Испанию. Королева Елизавета наказала служителям дворца не спускать с румын глаз, и воровство удалось свести до минимума. Королева была благодарна за предупреждение; более всего ее поразило подозрение Чаушеску («этого ужасного человечка», как она его называла среди своих), что к комнатам, отведенным ему в Букингемском дворце, подключена подслушивающая система. Она с насмешливым изумлением наблюдала, как Чаушеску в целях «конспирации» проводил утреннее совещание со своими приближенными в дворцовом саду: Кондукатор гордо шествовал впереди, а его помощники, подобно гадким утятам, ковыляли сзади.
С большим трудом согласилась Елизавета играть перед супругами Чаушеску роль гостеприимной хозяйки. Правительство Каллагэна долго уговаривало ее, ссылаясь на то, что Чаушеску согласился приехать в Англию только на этих условиях, а острая экономическая необходимость для Англии продать Румынии самолеты и вооружение превращали это радушие в обязательную повинность. Президент Жискар д’Эстен тоже был вынужден пригласить Чаушеску из-за торговой сделки, затрагивавшей интересы компании «Рено».
Королева Елизавета всегда была прекрасно осведомлена о странах, лидеров которых ей приходилось принимать, а в 1978 г. культ личности Чаушеску и его ненасытная мегаломания уже цвели пышным цветом, о чем и было подробно доложено королеве английским министерством иностранных дел. Явное нежелание Ее Величества принимать подобного гостя диктовалось, впрочем, и другими причинами. Чаушеску стоял во главе той самой партии, что изгнала румынского короля Михая, приходившегося королеве дальним родственником, причем расправилась с его сторонниками сразу по возвращении короля в Бухарест из Лондона, где он присутствовал на бракосочетании принцессы Елизаветы с принцем Филипом. РКП также приписала себе заслугу антинацистского переворота, который в действительности 23 августа 1944 года осуществил король Михай.
Английская королевская семья настолько блистательно владеет искусством светского этикета, что способна найти подход практически к любой персоне, однако попытка развлечь супругов Чаушеску оказалась поистине титанической задачей даже для нее. Правда, на фотографиях, запечатлевших румынскую чету в обществе королевы Елизаветы и принца Филипа, лица гостей выражают явную благожелательность по отношению к хозяевам. По словам бывшего румынского придворного, это была первая улыбка Кондукатора со времени бегства Пачепы.
В период визита Чаушеску в Англию Румыния в глазах общественного мнения была страной, пережившей ужасное землетрясение и нуждавшейся в помощи, которая и была ей предоставлена в невиданных дотоле масштабах. Когда в марте 1977 г. произошло это бедствие, Николае и Елена были в очередном официальном турне (в Лагосе); они спешно вернулись на родину, где Чаушеску взял на себя полномочия по борьбе с последствиями стихийной катастрофы. Огромные разрушения, вызванные землетрясением, пробудили давний интерес Николае к обновлению и, как следствие этого, преображению города и деревни. По иронии судьбы, естественный ущерб, причиненный историческим и архитектурным памятникам, подстегнул Чаушеску к планомерному уничтожению городов и сел, причем в таких чудовищных масштабах, что это отвратило от него доселе сочувственное общественное мнение. До 1977 г. его знали, в первую очередь, как диссидентствующего коммунистического лидера, бросившего вызов Советскому Союзу и порвавшего с ним. После 1977 г. его стали воспринимать как бандита, Дракулу, правящего с помощью бульдозера.
Как отметил Марк Элмонд в книге «Закат без падения», «пытаться понять масштабы деятельности Чаушеску путем сопоставления с деятельностью западных архитекторов-социалистов или коррумпированных предпринимателей — это смотреть на события в Румынии сквозь уменьшительное стекло». Корреспонденты, начавшие писать о святотатственных разрушениях византийских церквей и особняков XVIII века, в итоге сфокусировали свое внимание на более широких проблемах, включая запреты на разводы и аборты,— при этом они, кажется, не совсем отдавали себе отчет, что драконовские законы, запрещавшие аборты и разводы, существовали в Румынии с 1966 года. Нечего и говорить, что Секуритате извлекала немалую выгоду из этих ограничений: обещание облегчить процесс развода или закрыть глаза на незаконный аборт оказывалось достаточной приманкой для регулярного пополнения и без того внушительной армии осведомителей.
«Землетрясение 1977 года было спусковым крючком»,— выразился профессор Дан Бериндей. После возвращения из азиатского путешествия 1971 г. Чаушеску грезил о геометрическом Пхеньяне с его бесчисленными широкими проспектами и мириадами одинаковых домов. Подобная архитектура неприемлема для тех, кто считает город живой и многообразной сокровищницей прошлого. Большая часть старой Барселоны, с точки зрения стандартов городского планирования, представляет собою трущобы, но уничтожение ее извилистых боковых улочек обернулось бы истинной культурной и архитектурной трагедией.
Однако подобные эстетические соображения не занимали супругов Чаушеску, а их представления об архитектурных принципах зарубежных городов ограничивались панорамой, открывавшейся из окна лимузина во время их бессчетных официальных визитов. Этот сплав культурной и эстетической невежественности, марксистско-ленинских штампов и ненасытной «гигантомании» со всей неизбежностью привел к катастрофическим последствиям.
По замечанию профессора Тронда Гилберга, Карл Маркс был типичным продуктом индустриальной революции, а потому — убежденным урбанистом, с презрением говорившим об «идиотизме деревенской жизни». При коммунизме, предсказывал Карл Маркс, в развитом индустриальном обществе различия между городом и деревней будут в итоге стерты. «Узкий взгляд на марксизм», свойственный Чаушеску, толкал его к прямолинейному внедрению в жизнь марксистских теорий и сталинской доктрины индустриализации (в одной из своих речей он поставил задачу «радикального уничтожения основных различий между городами и деревнями»). Эстетические и исторические моменты просто не брались в расчет. Еще задолго до 1977 года Чаушеску выдвинул лозунг — «систематизация, модернизация, цивилизация» —, призванный уничтожить «питательную среду для буржуазного либерализма», зиждящегося на «различных формах частной собственности»; еще до землетрясения 1977 года Кондукатор предпринял некоторые шаги в этом направлении. И если в Польше после войны коммунистические власти взялись любовно восстанавливать старую часть Варшавы, стертую нацистами с лица земли, то Чаушеску не только принялся уничтожать традиционные деревни и переселять жителей в пригородные барачные трущобы, но и начал процесс разрушения исторического центра Бухареста, к счастью прерванный его свержением.
В сельской местности деревенским жителям приказывали эвакуироваться, а их дома сносили бульдозерами. Затем их селили в бетонные коробки, зачастую с коммунальными кухнями и общими саунами. Таким образом было уничтожено пять тысяч деревень, и тысячи других ждали своей очереди. Целью этого вандализма провозглашалось избавление от «архаичной» деревенской жизни и от разницы между заводскими и сельскохозяйственными рабочими. Само собой разумеется, за людьми, согнанными под одну барачную крышу, установить слежку было легче, чем за живущими в отдельных домах. Вследствие постоянных производственных неурядиц, некачественности строительных материалов, непродуманности затрат и коррупции качество построек в этих новых «деревенских пригородах» было ужасное, а во многих домах не было водопроводов и канализации. В новых комплексах невозможно было держать кроликов, кур, уток или гусей, служивших для постоянно нищавших румын некоторым подспорьем.
В городах «систематизация» и «модернизация» протекали в несколько иной форме. В 1977 году началось постепенное разрушение церквей, проходившее под охраной милиции, ибо отдельные «консерваторы», прихожане или какие-нибудь студенты архитектурного института пытались пикетировать предназначенные на слом строения. Но самое грандиозное разрушение целого квартала Бухареста было задумано в 1978 г. и не имело никакого отношения к последствиям землетрясения.
С тех пор как Чаушеску сделался генсеком, он мечтал возвести монументальное сооружение, под крышей которого разместились бы все основные румынские государственные и партийные институты власти. С этой целью в 1978 г. он объявил конкурс на лучший проект «Народного дворца». Никому не известная 25-летняя выпускница архитектурного училища Анка Петреску, вооруженная решимостью, по мощи равной лишь ее собственному равнодушию к историческому прошлому Бухареста, пробилась сквозь строй именитых архитекторов и привлекла внимание Чаушеску. Не будучи членом монаршего клана (ложные слухи приписывали ей родственные связи с Еленой на основании совпадения их девичьих фамилий; однако фамилия Петреску очень распространена в Румынии), ей все же удалось выиграть состязание — во многом благодаря тому, что основные усилия она бросила на изготовление макета из папье-маше размером чуть ли не в натуральную величину.
«Я знала, что Чаушеску особенно нравились традиционные архитектурные формы с налетом французского неоклассицизма»,— рассказывала Петреску. Среди прочих проектов было представлено несколько современных решений, в том числе и план сооружения в стиле Хрустального дворца (по слухам, будучи в Лондоне, Кондукатор посетил Хрустальный дворец, который произвел на него большое впечатление). Но соперники не были страшны Анке Петреску— она атаковала помощников Чаушеску с большим напором и умением. Решающим фактором победы оказалось ее утверждение, что Народный дворец (после смерти Чаушеску переименованный в Дом республики) должен занимать почти всю Арсенальную гору, а его фасад (высотой 100 м и шириной 200 м) выходить на грандиозный бульвар Победы социализма, по протяженности равный Елисейским полям. Для осуществления сего требовалось снести весь квартал Уранус и застроить его безжизненными бетонными коробками в чистейшем пхеньянском стиле.
Хотя собственно демонтажные работы начались только в 1984 г., план преобразования района Уранус разрабатывался уже с 1978 г. В смету колоссальных расходов входили средства на строительство огромного подземного убежища и подземной узкоколейки исключительно для личного пользования супругов Чаушеску; план не предусматривал соединения Народного дворца с городской станцией метро. Пока утверждался бюджет строительства дворца, министр здравоохранения Прока обивал пороги кабинета Чаушеску, тщетно надеясь получить высочайшее согласие на продление послеродового отпуска матерям; получив отказ, министр подал в отставку. Увеличение послеродового оплачиваемого отпуска с 3 до 6 месяцев потребовало бы от правительства полмиллиарда лей, тогда как на строительство дворца ушло в 12 раз больше— по меньшей мере 6 миллиардов.
С самого начала Чаушеску принял горячее участие в проекте. Рождение румынского «нового человека» на поверку оказалось делом весьма нелегким; социальная инженерия, как и сталинская экономика, породила непредвиденные сложности. По мере того как румынская экономика буксовала все безнадежнее, планы индустриализации и строительства нефтеперерабатывающих и агроиндустриальных комплексов оборачивались катастрофическими убытками, эйфория начала 70-х годов поблекла, а затем и окончательно угасла, штурвал государственного корабля все больше ускользал из рук Чаушеску. Статистика постоянно и вынужденно фальсифицировалась, и супругам не оставалось ничего иного, как чех-востить безответных подчиненных за невыполнение грандиозных и нереальных планов. Наконец-то появился проект, который они могут полностью контролировать: от формы фонтанов, долженствующих украсить бульвар Победы социализма, до размера дверных ручек и золоченых мозаик в кабинетах Елены, отделанных красным деревом. Команда архитекторов во главе с Анкой Петреску готова была беспрекословно осуществить высокую мечту супругов: оставить Румынии в наследство самое большое здание в мире. Тот факт, что для этой цели требовалось разрушить четвертую часть Бухареста и что здание не имело ни малейшего функционального значения, ибо Государственный совет, президентская служба, Центральный комитет и Совет министров располагались в прекрасных особняках,— совершенно не беспокоил Николае и Елену.
Для архитектора Марианы Челак, не привлеченной к разработке проекта, но хорошо знавшей Уранус, поскольку в детстве она ездила туда к учительнице музыки, разрушение района было «актом подлинного насилия». Здесь, по ее рассказам, располагались красивейшие дома, зачастую окруженные садами, монастыри в зелени каштанов, школы, магазинчики, церкви. «Я пыталась понять, что творится в голове Чаушеску»,— говорила она.
По злой иронии судьбы первоначальная победа, одержанная ничтожной Анкой Петреску над более маститыми коллегами, в итоге обернулась для нее самой беспросветным кошмаром, ибо венценосная чета оказалась патроном невыносимым. В отличие от Гитлера, выбравшего себе певца гигантизма —Альберта Шпеера и затем полностью на него положившегося, супруги Чаушеску следили за каждым этапом разработки и строительства Народного дворца так же подозрительно и привередливо, как и за своей личной прислугой.
Несмотря на безоговорочную веру Чаушеску в ленинскую идею о насильственном преобразовании действительности, на практике он оказался чрезвычайно нерешительным покровителем, пребывавшим в постоянной душевной сумятице, неспособным принять окончательное решение и даже четко сформулировать свои желания. «Мы знали, что он не в состоянии оценить эффект колонны и двери в уменьшенном виде,— рассказывала Анка Петреску,— и нам приходилось делать макеты колонн и окон в натуральную величину, и даже тогда он толком ничего не мог сказать». Сначала колонны были дорическими, затем ионическими, потом снова дорическими. Согласно первоначальному проекту, крыша дворца была плоская, «но он захотел куполообразную, как у здания университета», потом, по размышлении, он распорядился добавить еще два этажа для кабинетов. Двери и окна, имевшие наверху овальную форму, стали по его требованию прямоугольными. Он рвал и метал, обнаружив, что достроенные этажи оказались слишком темными, с низкими потолками, и приказал прорезать дополнительные окна.
Он сам придумал массивный изогнутый флагшток для крыши дворца, образец невыразимого уродства. Сверх того, он совершенно не мог постичь законов масштаба и перспективы. Поскольку проект комплекса неудержимо разрастался и занимал все большую площадь, сам дворец стал казаться меньше, и Чаушеску теперь захотел сделать его еще грандиознее. Окружавшие его подхалимы потакали всем желаниям Кон-дукатора и дружно одобряли любые его приказания и перемену решений.
Мариана Челак, сочувственно наблюдавшая за работой своих коллег, доведенных до нервного срыва бесконечными приказами и контрприказами Кондукатора, совершенно убеждена, что сам Чаушеску никогда не считал свое поведение аномальным, а то, что другие принимали за нерешительность, было одной из форм проявления бурно развивавшейся паранойи.
Дом республики не только самое большое здание в мире, но, безусловно, и самое уродливое, однако повинна в этом не одна Петреску. Изначальный проект, при всей его отталкивающей тяжеловесности, не чужд был некоторой симметрии. Все переделки, внесенные Чаушеску, как и его отбор вариантов, были неизменно во зло. Несмотря на огромные расходы, здание производит впечатление нелепого компромисса.
Необъятный зал для «заключения договоров» украшен самыми большими и самыми вычурными в мире канделябрами, но бетонный балкон, опоясывающий это внушительное помещение, уже начинает разрушаться. Последующие поправки к оригинальному плану привели к нарушению общих пропорций; попытки экономии вылились в частичную замену камня прессованными плитами, мрамора — цветным камнем (но тем не менее на строительство ушло такое количество мрамора, что в течение нескольких лет на румынских кладбищах нельзя было установить мраморного надгробия). На фасаде образовались трещины; здание плохо отапливалось зимой, поскольку Николае запретил «из эстетических соображений» устанавливать радиаторы и другие обогревательные приборы.
Если бы Елена Чаушеску единолично распоряжалась строительством Народного дворца, то дело бы, несомненно, двигалось быстрее. Жительница Петрешти вспоминает, что, когда Елена в 1986 г. посетила свою родную деревню, она даже не вышла из машины; «мы видели, как она пальцем показывала то на один, то на другой дом». На следующий же день появилась команда подрывников и смела с лица земли все то, на что указывала Елена. Очевидно, она решила своим собственным, индивидуальным способом привнести систематизацию, модернизацию и цивилизацию в родную деревню.
Современные строения, призванные превратить Петрешти в образцовый новый город, в стилистическом отношении были на редкость безвкусны. Дворцы и охотничьи замки, возведенные в каждой области на потеху супругов Чаушеску, выдавали ту же мелкобуржуазную ментальность выскочек. Стиль внутреннего убранства Весеннего дворца с трудом поддается определению; в лучшем случае его можно назвать причудливым сплавом саудовско-аравийского, шотландско-байронического и франко-ренессансного стилей, с легким налетом кремлевского. Вереницы комнат были меблированы длинными обеденными столами и пышно драпированными, крайне неудобными креслами. Личные покои четы Чаушеску с золотой сантехникой в ванной комнате были сколь роскошны, столь и неудобны, а кровати — жестки, как нары. Огромные зеркала в спальне Елены были вставлены в резные рамы с инкрустацией из золота, серебра и полудрагоценных камней — готовые экспонаты для „ пристройке располагался закрытый бассейн, украшенный
аляповатой стенной росписью; во всех дворцах имелся специальный кинозал. Книг нигде не было видно, и все здание имело странный, нежилой вид. Чудесен был сад, окруженный лишь низким забором (жесточайшие меры безопасности, действовавшие в радиусе нескольких километров от резиденции, позволяли обходиться без колючей проволоки и электрической ограды).
Когда супруги путешествовали, с ними ездила и вся обслуга. Официанты, повара и телохранители работали почти без выходных; один из охранников выполнял вдобавок обязанности киномеханика. По словам бывшего управляющего супругов, они особенно любили телесериал «Код-жак», а также «Анжелику» с Мишель Мерсье в главной роли. Они без конца смотрели «Жизнь наверху», «Великого Гэтсби» и экранизацию повести Франсуазы Саган «Любите ли вы Брамса?». Прислуге разрешалось смотреть фильмы только из кабины киномеханика. Управляющий также дал понять, что они не брезговали и «фильмами, показывающими физическую любовь».
«Царская охота» была традиционно любимым развлечением коммунистических лидеров — от Тито до Брежнева, но Чаушеску по охотничьему азарту и размаху оставил их далеко позади. Поскольку главная цель местных партсекретарей заключалась в том, чтобы ублажить Чаушеску, они своей первоочередной задачей — после инсценировки пышных чествований — считали обеспечение Николае необходимым охотничьим снаряжением. С 1970-х годов огромные территории перешли в его исключительное пользование, и в конце жизни Чаушеску владел самыми обширными в мире охотничьими угодьями. Ему принадлежали 23 охотничьих домика, в том числе 15 «загородных дворцов», убранных в стиле Весеннего дворца, но вдобавок увешанных трофейными шкурами и рогами.
В окрестностях Азуги, между Синаей и Брашовом, были специально построены целых три охотничьих дома; любимое пристанище Чаушеску — массивный псевдошвейцарский деревянный коттедж — круглосуточно охранялся Секуритате. Существовал приказ, согласно которому никто не имел права посещать этот дом кроме Николае и Елены, а также их редких гостей. Поэтому, когда однажды Зоя Чаушеску, проезжавшая мимо, остановилась, чтобы попить воды, ее не пустили в коттедж.
Управляющая этого коттеджа была (и по сю пору остается) ярой сторонницей Николае, но, подобно всем остальным, ненавидит Елену. «Он был добрым человеком,— рассказывала мне она.— Однажды сторожевая собака Секуритате укусила Корбу [любимого лабрадора Чаушеску], и когда Николае узнал, что охранники застрелили эту собаку, он ужасно рассердился». Она вспомнила, как однажды, совсем не по ее вине, дым из камина заполнил комнату. «Елена тут же начала вопить, обвиняя меня в саботаже и попытке отравить «Товарища». Она грозилась отдать меня Секуритате. Николае сказал: «Не волнуйся так, дорогая, прокопченное мясо дольше хранится».
На охотничьи развлечения Чаушеску тратились весьма изрядные суммы. Диких зверей (некоторых из них специально импортировали) всячески холили и лелеяли и кормили отборным зерном и мясом. Бывший управляющий одной из таких охотничьих «ферм» рассказывал, что, в то время как в деревне ягнята погибали от истощения, он давал зерно диким кабанам и мясо медведям. «Чаушеску был заядлым охотником,— сказал он.— Стреляя из ружья марки «Холланд энд Холланд» [любимое охотничье оружие английских аристократов], он был способен за короткий отрезок времени убить огромное количество зверей».
Управляющий упомянул, что во время одного охотничьего рейда Николае убил 66 черных горных козлов, весьма редких и занесенных в «Красную книгу» животных. Недалеко от Синаи был устроен специальный подъемник, чтобы расстреливать перепуганных зверей сверху. В штат обслуги Чаушеску неизменно входил профессиональный охотник, ответственный за бесперебойную поставку дичи для Кондукатора: дикие козлы ввозились из Австрии, медведи —с Аляски. В Рыушоре (округ Арджеш) за животными круглосуточно наблюдал ветеринар и кормил их сыром, рыбой, мясом, яблоками и морковью. Целый научно-исследовательский институт пять лет занимался проблемой адаптации полярных медведей в условиях горных районов Румынии (медведи неизменно дохли). Вследствие крайней загруженности Кондукатора его охотничьи экспедиции продолжались, как правило, не более двух дней, но зато они организовывались с невиданным размахом. Профессиональный охотник вспоминал, что во время одного такого увеселения для доставки гостей потребовалось два самолета, четыре вертолета и шесть машин. Хотя все единодушно воспевали меткость Чаушеску, он был на самом деле весьма средним стрелком. Дело в том, что зверей специально подготавливали к бойне: держали на особой диете, так что медведи — любимая мишень Чаушеску — были практически «зоосадовскими» животными; непосредственно перед охотой их накачивали транквилизаторами и выгоняли на место, где их легче всего можно было подстрелить. При этом создавалось впечатление, будто это дикие животные и только охотничье мастерство Чаушеску позволяет ему убивать их.
Как и в случае с проектом Народного дворца, в страсти Кондукатора к убийству животных (заметно усилившейся в последнее десятилетие его жизни) нельзя не усмотреть ту же попытку бегства от стоявших перед ним неразрешимых задач. Горы убитых зверей были своего рода доказательством его могущества, пусть даже в весьма ограниченной сфере деятельности. Личный пилот Чаушеску Василе Малуцан вспоминал об этих охотничьих путешествиях как о страшном кошмаре для него и его экипажа, поскольку им часами приходилось сидеть без еды, пока Кондукатор упивался стрельбой, а если он оставался на ночь, то и ночевать в припаркованных вертолетах, дрожа от пронизывающего холода (подобное равнодушие к судьбе подчиненных в полной мере распространялось и на журналистов, сопровождавших супругов в зарубежных поездках; например, в США им выдавались суточные в размере 8 долларов).
Чаушеску коллекционировал охотничьи трофеи с той же страстью, как Елена — свои почетные степени, и между ним и болгарским лидером Тодором Живковым завязалась дружеская борьба за лучшую охотничью коллекцию. К декабрю 1989 г. Чаушеску был обладателем 244 оленьих трофеев и 385 медвежьих. По словам его бывшего подчиненного, в год он убивал тысячи животных. Больше всего он любил свое ружье с оптическим прицелом, подаренное ему королевой Елизаветой: оно напоминало о его звездном часе.
Секуритате
И как следствие усиленной заботы Нашего Благодетеля о поддержании сил порядка и его величайшей щедрости в этом вопросе, в последние годы его царствования вовсю расплодились полицейские и отовсюду выросли уши: они торчали из земли, вылезали из стен; они таились в кабинетах, шныряли в толпе, стояли у входа, маячили на рынках. И чтобы защититься от нашествия стукачей, люди выучили — незнамо как, где и когда, без учебников, словарей и курсов — другой язык и столь мастерски им овладели, что нежданно-негаданно мы, простой и необразованный народ, стали двуязычной нацией… Один язык служил для внешнего обихода, другой — для внутреннего. Первый был сладостным, второй — полон горечи, первый — отшлифован, второй — шершав; один выводил в люди, другой берег от дурного глаза.
Рышард Капусцинский. «Император»
Тот, кто пристально изучал Восточную Европу еще до краха коммунистической системы, когда все сателлиты Союза были подлинно полицейскими государствами, хорошо помнит, какие огромные средства тратиг лись там на слежку и надзор. Туристы могли чувствовать себя в относительной безопасности только до той. поры, пока не пытались, положившись на свой статус, наладить контакты с диссидентами. Во всех странах, будь то Восточная Германия или Чехословакия, Болгария или даже (до 1986 г.) Венгрия, действовала одинаковая в своей основе догорбачевская тоталитарная советская система, зорко следящая за посольствами, отелями, иностранцами всех мастей и, разумеется, гражданами своей страны.
Нигде, даже, пожалуй, и в сталинской России не было такого всемогущего сыскного аппарата, как в Румынии при Чаушеску. Румынская секретная полиция проникла во все сферы румынской жизни, ее боялись больше самого Чаушеску, и она пользовалась еще более мрачной славой, чем советский КГБ. Причина заключалась не только в том, что Секуритате теснейшим образом сотрудничала с РКП на всех ее уровнях, но и в том, что тайная полиция (более гибкая и многофункциональная организация, нежели КГБ) пронизала все уровни государственной деятельности. Румынское министерство торговли было не просто рассадником агентов Секуритате, но, по существу, ее собственным ведомством. Секуритате обладала также самостоятельной сетью торговых компаний с дочерними филиалами за рубежом и даже банками. Она к тому же в большой степени опиралась на информационную агентурную сеть, действовавшую внутри РКП.
Силвиу Брукан, старый коммунист (и бывший сталинист), отстраненный в середине 60-х годов от кормила власти, а в 70—80-х годах ставший ведущим диссидентом и посаженный за это под домашний арест, в статье, которая появилась в лондонской ежедневной газете «Индепендент» 28 ноября 1987 г., попытался опровергнуть «распространенное на Западе заблуждение, что этот режим держится исключительно на плечах репрессивных структур государства. На самом деле главный инструмент власти находится в руках коммунистической партии, а силы безопасности играют лишь второстепенную роль и имеют дело только с исключительными ситуациями». Секуритате опутала страну такой хитрой и прочной паутиной и так искусно научилась ткать дезинформацию, что западные разведывательные службы задавались вопросом, не является ли даже письмо Брукана, написанное под угрозой известного риска, очередной уловкой Секуритате. Румынская тайная полиция была настолько вездесущей, что в итоге превратилась в своего рода пугало; ее и без того достаточно большая власть многократно увеличивалась в воображении румын. Как-то раз в середине 80-х годов Мариану Челак (известную диссидентку и архитектора) привезли на большой завод, чтобы наглядно продемонстрировать сыскные способности охранки. Все телефонные разговоры записывались на пленку, и в качестве доказательства ей представили кассету под номером 6432. «Главный абсурд состоял в том,— рассказывала она,— что, хотя они действительно записывали все разговоры, никто очевидным образом этими разговорами больше не интересовался и не анализировал их содержания. Одного сознания, что все записывается и прослушивается, оказалось достаточным, чтобы превратить людей в трусов. Инструментом Секуритате было обычно человеческое чувство страха». Челак также высказала ряд насмешливых замечаний по поводу упрощенного представления Запада о деятельности секретной полиции. «Мне кажется, на Западе сложился несколько романтизированный образ системы»,— сказала она и пояснила на собственном примере: когда она стала публично высказываться против разрушения румынских исторических памятников, ее уволили с работы. «Я думаю, что звонок партийного босса или чиновника Секуритате совсем не обязательно предполагал увольнение,— сказала она.— Мои начальники выгнали меня, подчиняясь своеобразному рефлексу Павлова».
Как объяснил Ливиу Турку, бывший сотрудник тайной полиции, в 1987 г. эмигрировавший в США: «Представьте себе огромный аппарат, распускающий слухи и наводящий страх и ужас, и созданную им атмосферу, в которой люди панически боятся, что, если они допустят хоть малейшую оплошность, квалифицированную как акт неповиновения Чаушеску, они бесследно исчезнут. Именно страх парализовал румынское население; самым выдающимся образцом дезинформации был слух, специально распускаемый Секуритате, что каждый четвертый румын является ее осведомителем».
Начиная с 1978 года, Румыния все больше попадала в тиски тяжелого экономического кризиса, из которого не было выхода до тех пор, пока Чаушеску цеплялся за сталинский принцип единовластия. Первая забастовка шахтеров (после долгих и жарких дебатов по поводу рабочего графика и урезанных пенсий) произошла в сентябре 1972 года в долине Жиу. Еще более мощная забастовка вспыхнула в августе 1977 года и охватила 35 тысяч человек; в ходе репрессий, устроенных Секуритате, два инженера, выступивших на стороне рабочих, погибли в «автомобильной катастрофе». Попытка создать «независимый» профсоюз закончилась отправкой зачинщиков в психиатрические больницы, а остальных — под суд за «преступления против социализма». Однако в октябре 1981 г. горняки вновь забастовали. На этот раз Секуритате не ограничилась карательными отрядами и отдельными расправами; она депортировала в другие районы страны такое количество шахтеров и членов их семей, что, по мнению Пауля Гомы, поддерживавшего тесный контакт с мятежниками, состав населения в долине Жиу коренным образом изменился. Секуритате перевела в этот район часть бывших военнослужащих, а также своих собственных агентов, срок контракта с которыми в скором времени истекал, и произвела их в шахтеры. Это отчасти объясняет, как удалось Илиеску в июне 1990 года использовать шахтеров для разгона студентов и своих политических противников, митинговавших на улицах Бухареста.
Мариана Челак разделяет мнение многих других диссидентов, что репрессивные меры Секуритате, направленные против отдельных интеллектуалов, которые действовали, так сказать, в вакууме, были куда слабее, нежели против любых форм организованной оппозиции. Истязания одиночек носили скорее психологический, чем физический характер. Например, несколько раз Челак извещали, что ей следует прибыть по такому-то адресу для допроса; ее заставляли долго ждать, а затем несколько часов подряд допрашивали, но неизменно отпускали домой. С Даном Петреску (одним из двух известных диссидентов города Яссы) обращались подобным же образом, но после допросов, рассказывал он, чиновники Секуритате затевали «нормальный разговор», шутили и даже выражали некоторое подобие раскаяния за издевательства «по долгу службы».
Известный историк Дину Джуреску (в 1988 году получил политическое убежище в США и работал в Техасском университете, но вскоре после декабрьской революции вернулся в Румынию и ныне преподает в Бухарестском университете) объяснял, как он, после уведомления «курировавшего» его чиновника Секуритате об очередном обеде в западном посольстве— сокрытие подобных фактов грозило допросом и даже домашним арестом,— воспроизводил затем приукрашенные варианты своих бесед с зарубежными коллегами. «Иногда мне казалось,— вспоминал он,— что я совершаю почти что благое дело, выбирая для пересказа именно те разговоры, которые касались необходимости посылать румынских студентов на практику за границу или ущерба, наносимого отечественной науке нашим вынужденным изоляционизмом». .
Чиновник Секуритате, которому он докладывал, пожилой и явно скучающий человек, просто передавал отчеты историка в соответствующие инстанции и не терзал его без особой нужды. «Пока я оставался единственным румынским гостем, моя миссия была мне не в тягость,— рассказывал Джуреску.— Проблемы возникали, когда за посольским столом собиралось несколько наших, ибо я начинал терзаться мыслью, насколько добросовестными осведомителями окажутся остальные и вообще не являются ли они провокаторами».
В 1980 году Румыния уже не внимала директивам Чаушеску, что невольно отражалось в его речах, наполненных бесконечной статистикой, которая подтверждала, что под его просвещенным руководством страна достигла невероятного расцвета, а также инвективами в адрес его подчиненных и партаппаратчиков, ответственных за «недостатки». В 1982 году, во время очередного внезапного рейда по бухарестскому рынку, Чаушеску при всем честном народе уволил сопровождавшего его министра сельского хозяйства, пеняя ему на скудость ассортимента продовольственных товаров. Подобное гарун-аль-рашидовское поведение можно рассматривать просто как хорошую пропаганду, однако оно подчеркивает тот факт, что по вопросу о продовольствии у Чаушеску не было никаких конструктивных решений, а потому оставалось только делать театральные жесты.
По мере того как государственный штурвал ускользал из рук Чаушеску, Секуритате во все возрастающей степени из сугубо репрессивного аппарата превращалась в систему управления. Если она и не могла излечить наследственных язв сталинской экономики, усугубившихся нефтяным кризисом 70-х годов, то по крайней мере была способна обеспечить послушание. И что еще существеннее, она служила сторожевым псом режима, готовая в случае нужды предупредить Чаушеску о готовящемся против него заговоре, ибо Кондукатор хорошо знал по опыту прошлого, что в смутные времена пост генерального секретаря становился весьма и весьма опасным. Разве не он сам был свидетелем или участником бесчисленных падений его коллег и начальников — от Штефана Фориша до Пэтрэшкану, Аны Паукер, Дрэгича и Апостола? Разве не он сам разрушил посмертную репутацию своего непосредственного предшественника Георгиу Дежа?
Постепенно сыскная деятельность Секуритате распространилась и за рубеж; началась слежка за дипломатами, подозреваемыми в излишнем «либерализме». Корнелиу Мэнеску, один из самых талантливых румынских дипломатов, представитель Румынии в ООН и позднее министр иностранных дел, сообщил в телеинтервью (в январе 1990 г.), что «в конце концов наши посольства почти повсеместно превратились в вотчины Секуритате». Хотя между министерствами иностранных и внутренних дел как будто бы существовала договоренность о пропорциональном соотношении в посольствах настоящих дипломатов и агентов Секуритате, к середине 70-х годов процент сотрудников тайной полиции резко и необоснованно возрос. Они весьма преуспели в слежке за коллегами, но сами как дипломаты были абсолютно беспомощны.
Бывший посол в Вашингтоне Мирча Малица рассказывал мне, что Секуритате, стремясь по возможности изолировать его от контактов с американскими коллегами, систематически урезала фонды на все виды представительской деятельности.
Однако он нашел выход из положения, во-первых, экономя на других расходах, а во-вторых, заменив официальные приемы для американских журналистов непринужденными и недорогими завтраками, которые вашингтонские корреспонденты регулярно и с удовольствием посещали (к великой и бессильной ярости местного персонала Секуритате).
Сама же Секуритате тратила на свои нужды поистине бесчисленные средства, и, вероятно, Чаушеску иногда сам поражался, куда уходят деньги. «Я подсчитал,— сказал Силвиу Брукан,— для того, чтобы просто держать под наблюдением и меня и мои дом, т. е. задействовать персонал, машину и т. д., они расходовали в среднем 200 тысяч лей в месяц».
В число любимых проделок Секуритате входила расправа с эмигрировавшими диссидентами, причем руками наемных убийц нерумынского происхождения. Однако налаженная система иногда давала осечку. Так произошло, когда тайная полиция в 1981 году попыталась уничтожить двух самых известных румынских изгнанников — писателей Вирджила Тэнасе и Пауля Гому. Агент по имени Хайдуку, направленный во Францию для того, чтобы нанять убийц, немедленно предложил свои услуги французской службе безопасности. Писателей-диссидентов сразу законспирировали, а Кондукатора дезинформировали сообщением о том, что покушение якобы состоялось. Через длительный промежуток времени перевербованный агент Хайдуку все же раскрыл карты, поставив Чаушеску в крайне щекотливое положение. Этим инцидентом поспешил воспользоваться президент Франсуа Миттеран, давно искавший предлог, чтобы отменить намеченный на 1982 год официальный визит в Румынию.
Любимейшим чтением супругов Чаушеску были секретные документы, собранные Секуритате, особенно те, что касались интимных сторон жизни их ближайших коллег и сподвижников по РКП. Когда после смерти Елены Чаушеску в Весеннем дворце вскрыли ее личный сейф, то наряду с драгоценностями в нем обнаружили энное количество запечатанных конвертов, содержащих в себе свежие развернутые донесения Секуритате о высокопоставленных румынских сановниках, приближенных к Ее Превосходительству. Одной из первоочередных задач Секуритате считалось наблюдение за детьми Чаушеску. Иногда сыскная деятельность тайной полиции сильно смахивала на сюрреалистический спектакль.
Бывший король Румынии Михай рассказывал, что его дом в Швейцарии (в местечке Версуа под Женевой), а также члены его семьи находились под постоянным наблюдением Секуритате, хотя король с самого начала подчеркнуто отстранился от любой политической активности. Какие-то темные личности из отдела «грязных делишек» Секуритате развлекались тем, что посылали королевской семье анонимные письма, угрожая убийствами и похищениями. «Некоторые из этих писем приходили якобы от бывших членов Железной Гвардии,— рассказывал король,— но коммунистическая фразеология и топорный стиль посланий выдавали их авторов с головой». Несмотря на шантаж, ни сам Михай, ни члены его семьи не изменили привычного образа жизни, единственная принятая ими мера предосторожности состояла в просьбе отправлять все стекавшиеся к ним посылки и непрошеные дары (включая цветы) на предварительную экспертизу в местное полицейское отделение. «Мы по возможности старались не давать незнакомым людям наш адрес и телефон и иногда ездили в город разными маршрутами»,— сказал он. Опытная швейцарская полиция, в свою очередь, тоже установила негласное наблюдение за домом бывшего короля.
Со дня насильственного изгнания из Бухареста и до декабря1989 года Михай не получил ни единой весточки из Румынии — ни письма, ни телефонного звонка; но сразу же после революции на него обрушился ворох телеграмм, писем и телефонных звонков с пожеланиями благополучия. Даже через год после смерти Чаушеску объем получаемой им почты производил весьма внушительное впечатление. Совершенно очевидно, пояснял король, что, несмотря на все попытки Чаушеску предать его имя забвению, в Румынии оставалось еще много людей, помнивших его роль в августовских событиях 1944 года. После смерти Кондукатора к королю стали стекаться многочисленные посетители, в том числе и молодежь. «Они почти ничего не знают о прошлом своей страны,— рассказывал Михай,— но горят желанием понять, что же действительно произошло в Румынии». (Будучи британским подданным — по личной просьбе королевы Елизаветы ему даровали почетное гражданство,— бывший король не может приехать в Румынию без визы, в которой ему режим Илиеску до сих пор отказывает. Когда ему в последний раз — в апреле 1990 года — отказали во въезде, он шутя намеревался предъявить свой румынский паспорт, срок действия которого истек в 1954 году, и извиниться за то, что он не смог вовремя продлить его «ввиду уважительных обстоятельств».) Принцессы София и Маргарита посетили Румынию дважды — в январе и сентябре 1990 года с намерением основать фонд охраны и реставрации исторических памятников, бороться с загрязнением окружающей среды и внести свой вклад в улучшение народного здравоохранения. Их с энтузиазмом встретил румынский кабинет министров, однако телефон в их временной резиденции четыре дня был отключен. «Старые традиции,— объяснил один бывший румынский коммунист, хорошо знавший повадки Секуритате,— отмирают с трудом».
Силвиу Брукан имел возможность собственными глазами убедиться в том, с какой тщательностью работала Секуритате. После революции ему удалось раздобыть досье на самого себя, причем это был экземпляр, сделанный тайной полицией для личного пользования Чаушеску. Досье было красиво оформлено, толщиной и форматом напоминало сброшюрованный киносценарий. В правом верхнем углу переплета было начертано «совершенно секретно» и «в одном экземпляре»; о том, что это копия лично для Чаушеску, свидетельствовал неестественно крупный шрифт донесений. (Николае был близорук, но терпеть не мог очки, которыми не пользовался даже дома. Поэтому все доклады печатались для него особым шрифтом, по размеру почти в три раза превышавшим обычные типографские стандарты.) Досье на Брукана, случайно сохраненное румынским рабочим, посланным в числе многих других после смерти Чаушеску на уничтожение архивов Секуритате, было столь подробным, что содержало некоторые детали о его прошлой жизни, о которых он сам давным-давно забыл. Этот 100-страничный документ показывал, что в течение нескольких десятилетий он находился под неусыпным наблюдением Секуритате и что некоторые из его ближайших друзей регулярно поставляли о нем информацию, ибо ряд фактов нельзя было добыть из других источников. Брукану также попал в руки еще один, правда более короткий, «компромат» на самого себя. Когда происходили события, способные особенно заинтриговать Чаушеску, Секуритате изготавливала для него особые переплетенные буклеты. Буклет о Брукане докладывал о его телефонном разговоре с журналистом из Би-би-си, произошедшем в 1989 году; между прочим, буклет был не напечатан, а написан от руки профессиональным каллиграфом, работавшим в штате тайной полиции, причем сделано это было с таким невероятным мастерством, что сначала, когда Брукан мне его показал, я никак не мог поверить, что это не высококачественная факсимильная печать. Лишь едва заметные следы чернил на оборотной стороне листа указывали на ручную работу.
Наряду с такого рода документами, контейнерами свозившимися в кучу и сжигавшимися в марте 1990 года, существовали также сотни доносов на представителей высшего партийного эшелона, поскольку Чаушеску, подобно Сталину, шпионил не только за врагами или мнимыми оппонентами, но также, и в первую очередь, за собственными подчиненными. Электронный шпионаж за министрами, областными партсекретарями, высшим командным составом и правительством был делом обычного рода. В гостиницах целые этажи отдавались под установку подслушивающих устройств, а все туристические бюро были общеизвестными вотчинами Секуритате. Понятно, почему, например, обслуживающий персонал в ресторане столичной гостиницы «Интерконтиненталь» (после декабрьских событий 1989 года оставшийся в том же составе) в нынешнюю, постча-ушескинскую эпоху имеет столь мрачный вид.
Говорят, что каждый десятый, а может быть, и каждый четвертый румын служил штатным или внештатным осведомителем Секуритате. Очевидно, самой крупной «дезой» тайной полиции следует считать намеренно распространяемый ею слух о том, что все телефоны в Румынии оснащены «жучком», благодаря чему Секуритате имеет возможность прослушивать свыше 10 миллионов телефонных разговоров. Профессор Дан Бериндей рассказал мне, как однажды он встретил на улице своего прежнего студента, теперь работавшего, по его собственным словам, в «области безопасности», который вдруг спросил его: «Ой, хотите послушать, что говорят ваши соседи, супруги Попеску?» У него с собой был аппарат, приспособленный к подслушиванию разговоров, ведущихся внутри квартир, великолепную работу которого он тут же с готовностью и продемонстрировал.
Несомненным остается лишь факт, что в тот или иной период своей жизни каждый румын независимо от социального статуса неизбежно сталкивался с неким образованным и очаровательным незнакомцем, досконально все о нем знавшим и усиленно предлагавшим ему наладить необременительное, но постоянное сотрудничество с Секуритате; причем очень часто объекты внимания тщетно напрягали свое воображение, силясь понять, какая может быть логическая связь между ним и проблемами безопасности. Когда один ведущий архитектор-проектировщик спросил своего собеседника, какую, к черту, пользу он может принести своими донесениями, ему был дан ответ: «Вы работаете в той области, о которой нам мало что известно». Очевидно, смысл тотального дознания заключался в устройстве такого государственного порядка, при котором Секуритате в любой сфере — в больницах, школах, университетах, типографиях, банках, театрах —1 в любой момент могла проверить степень благонадежности подданных. «Мы, румыны,— писал Пауль Гома,— живем при румынской оккупации, оккупации более жестокой, нежели любая иноземная».
В книге «Красные горизонты» Пачепа приводит множество свидетельств маниакальной одержимости Чаушеску электронными подслушивающими устройствами, и, вне всякого сомнения, дай ему волю, с течением времени он нашпиговал бы «жучками» всю страну. В действительности в этом не было особой нужды, ибо румыны и так были убеждены, что их телефоны и спальни прослушиваются, что никто не может избежать слежки.
Что больше всего отличало Секуритате от тайной полиции других тоталитарных стран, так это культурный и социальный уровень ее осведомителей, или, пользуясь менее уничижительным французским термином, ее «почетных корреспондентов». Разумеется, всегда существовали вульгарные стукачи, работавшие на Секуритате по приказу партии. Однако в связях с охранкой подозревались и многие видные врачи, писатели и кинорежиссеры; к сожалению, столь многие, что любимой застольной темой у румын, причем куда более интригующей, нежели сплетни о том, кто с кем спит, всегда служили гадания, кто из знакомых работает на тайную полицию. Осведомителями становились даже ведущие интеллектуалы, например, (почти наверняка) известный переводчик французского поэта Анри Мишо и писатель-диссидент Саша Ивасюк. Так широк был круг румын, в то или иное время соприкасавшихся с Секуритате, что в постча-ушескинскую эпоху руководители Фронта Национального Спасения без труда расправлялись со своими потенциальными соперниками, обнародовав их давние связи с охранкой.
Вот что случилось буквально спустя несколько недель после смерти Чаушеску. Одним из виднейших представителей первоначального состава Фронта Национального Спасения (ФНС), взявшим на себя руководство Румынией после 22 декабря 1989 года, был Думитру Мазилу, юрист, работавший в ООН и в 1988 году представивший на ее рассмотрение анонимный, но весьма красноречивый документ, обличавший методы правления Чаушеску (за что в итоге он был посажен под домашний арест). Мазилу схлестнулся с Илиеску по поводу обстоятельств суда и казни супругов Чаушеску, разъяренный тем, что все произошло без его ведома, и понимая, что этот шаг сильно подрывает доверие к новому режиму. 12 января 1990 года он примкнул к антиправительственной демонстрации, участники которой требовали восстановить смертную казнь, отмененную лидерами ФНС сразу же после смерти Чаушеску. Однако истинной целью участия Мазилу в демонстрации был его протест против стремления ФНС превратиться в политическую партию. Вскоре после этого Мазилу пришлось подать в отставку: в газету «Ромыния либерэ» неизвестным путем попали документы, свидетельствующие о тесных связях Мазилу с Секуритате. «Я познакомился с Мазилу, когда он был полковником тайной полиции»,— заявил прессе Силвиу Брукан. «Ромыния либерэ» опубликовала сообщение, что Мазилу возглавлял школу по подготовке кадров Секуритате. Сам Мазилу утверждал, что в начале 70-х годов он всего лишь в течение нескольких месяцев преподавал основы законодательства в «университете» при министерстве внутренних дел и что никакого воинского звания он не имеет.
Весь эпизод наглядно подтверждает, как неистребим человеческий соблазн идти старыми, проторенными путями. Новые властители Румынии не нашли ничего лучшего, как протянуть руку в прошлое и вытащить оттуда уцелевшие досье тайной полиции, ибо отнюдь не все документы были уничтожены после смерти Чаушеску. Неудивительно, что руководители ФНС, подобно Брукану, так страстно жаждали найти и уничтожить компрометирующую их информацию.
Секуритате пережила революцию без какого-либо существенного ущерба; она была переименована в Румынскую разведывательную службу (SIR), воинские звания упразднены, но ее члены служат теперь верой и правдой режиму Илиеску. Их преданность правительству «новых людей» не вызывает ни малейших сомнений: им некуда больше податься.
Контингент тайной полиции представляет собой довольно мощную интеллектуальную силу, ибо Секуритате в течение многих лет вербовала как самых блестящих, так и самых беспринципных государственных служащих, для многих из которых попасть туда означало получить хорошее университетское образование. По рассказам диссидента Дана Петреску, бывшего школьного учителя в городе Яссы, большинство талантливых ребят в его школе тайно мечтали быть завербованными. Хотя в Секуритате, разумеется, имелся необходимый «джентльменский набор» головорезов и заплечных дел мастеров, в целом это была очень профессиональная организация. По возможности Чаушеску следил за тем, чтобы избиения, убийства и самые грубые формы устрашения проводились не румынами, а заезжими «гастролерами» (обычно палестинцами). Это обстоятельство, очевидно, и породило совершенно безосновательный слух о том, что во время событий 22—25 декабря 1989 года стрелковые отряды и снайперы, орудовавшие на улицах Бухареста, были подразделениями «арабских боевиков».
К середине 80-х годов высший командный состав Секуритате со всей очевидностью осознал, что Николае и Елена Чаушеску становятся тормозом общественного развития. К 1989 году, когда перестройка в Советском Союзе шла полным ходом, уже многие понимали, что Чаушеску обречен. Секуритате к этому времени совершенно прекратила информировать супругов об истинном отношении к ним румынского народа. Генерал Юлиан Влад, сверхэлегантный шеф тайной полиции, щеголявший в безупречно сшитых цивильных костюмах, столь же мало спешил представлять чете подобные отчеты, как в свое время приближенные Калигулы — просвещать безумного императора относительно подлинных умонастроений римских подданных. Пресмыкательство и естественное желание избежать неприятностей и личных унижений постепенно привели к тому, что Секуритате ограничилась поставкой только такой информации, которая была угодна обоим Чаушеску, к тому же в последние годы их правления личные помощники Елены просматривали всю корреспонденцию, ложившуюся на президентский «поднос», и отбрасывали все «неподходящее», что могло бы задеть достоинство президента. В конце концов этот уникальный инструмент наблюдения, усмирения и подавления совершенно утратил свою важнейшую функцию барометра общественного мнения.
Однако даже генерал Влад не нашел в себе силы скрыть правду о событиях в Тимишоаре, хотя он, разумеется, всячески подчеркивал сугубо этнический характер конфликта, намекал на иностранное вмешательство и неизменно принижал его значение для страны в целом.
Первоначально события в этом симпатичном трансильванском городке разворачивались довольно медленно и не выходили за рамки локального конфликта. 17 ноября 1989 года маленькая толпа верующих собралась возле дома популярного в народе протестантского священника Ласло Текеша. Будучи открытым противником режима Чаушеску и к тому же венгерским националистом, Текеш доставлял немало хлопот Секуритате, которая в конце концов убедила высшее духовенство перевести его в менее «заметный» сельский приход. В связи с этим неожиданно возник слух — первый в ряду последующих гиперболических искажений, что Текеша отправляют то ли в тюрьму, то ли в ссылку. Ежедневная парижская газета «Либерасьон», всегда уделявшая пристальное внимание событиям в Румынии, упомянула даже о грозящей ему «депортации». Очевидно, вследствие специфического нравственного климата и поведенческих стандартов румынского общества диссиденты и тогда и потом стремились представить дело Текеша в преувеличенно драматическом свете.
Истинная подоплека событий была совершенно иной, и Чаушеску мог бы с полным правом возразить (если бы нашелся тот, кто еще смел предъявлять ему претензии), что он не имеет никакого отношения к увольнению Текеша с должности и что закон на его стороне, поскольку вовсе не правительство и не Секуритате распорядились выслать Текеша из Тимишоары, а его собственный епископ. Ввиду того, что Текеш отказался уезжать, епископ позвонил в местный полицейский участок с просьбой выселить того из дома, являвшегося собственностью церкви: после уведомления о новом назначении Текеш становился незаконным жильцом. Именно вялая попытка местной полиции выгнать Текеша из приходского дома и вызвала 17 ноября демонстрацию протеста.
Дело Текеша еще раз подтверждает былое «манипуляторское» искусство Чаушеску. В отличие от Польши, где католическая церковь с самого начала коммунистического правления выступала как оппозиция правительству, румынские религиозные пастыри жили в полном мире и согласии с Кондукатором, восседая в Великом Национальном Собрании в качестве почетных членов. По замечанию Пауля Гомы, никого из священнослужителей, будь то протестанты или православные, нельзя было привлечь к античаушескинскому сопротивлению, ибо «они немедленно порывались вызвать Секуритате». Американский посол Фандерберк, посетив однажды рождественскую службу в румынском православном соборе, в негодовании покинул церковь, «когда услышал, как священник упомянул Чаушеску после Иисуса Христа».
Пикетирование дома Текеша продолжалось весь ноябрь. 27 ноября открылся XIV съезд румынской компартии. Иностранные наблюдатели, предсказывавшие вероятное восстание партии против клана Чаушеску, в очередной раз ошиблись. Всего несколько дней назад пала Берлинская стена, но упоминания о распаде коммунистического блока носили весьма отрывочный и предельно эвфемистический характер. Съезд был примечателен, главным образом, «страусиным» поведением его делегатов, которые безропотно высидели бесконечные речи Кондукатора, победоносно трубившего о положении в стране и достижениях «научного социализма». Хотя непрекращающееся пикетирование дома Текеша вызывало некоторое беспокойство, на заседании об этом инциденте не было сказано ни слова; съезд проходил под «бурные продолжительные аплодисменты», венчавшие речи Чаушеску. В однообразных подхалимских речах делегатов все же время от времени проскальзывали глухие намеки на «определенные тенденции к переходу на капиталистический путь развития и возвращению к капиталистической системе ценностей, возобладавшие в соседних социалистических странах». Чаушеску к этому времени пришел к твердому убеждению (хотя он никогда этого прямо не высказывал), что теперь Советский Союз вкупе с «западными империалистами» решил добраться и до него.
Его антимосковская позиция на съезде таила в себе изрядный элемент донкихотства. В двух различных докладах он потребовал отмены германо-советского пакта 1939 года, в результате которого Сталин в 1940 году присоединил к себе Бессарабию. В былые времена этот агрессивный, вызывающий национализм снискал бы Чаушеску не только аплодисменты делегатов съезда, но и горячее одобрение западного мира. Ничто так не свидетельствовало о полной потере Кондукатором чувства реальности, как его неспособность понять, что в нынешней ситуации подобный антисоветский словесный хлам не вызовет даже элементарного любопытства. Он никак не мог осознать, что с началом перестройки и гласности, их распространением на Восточную Европу интерес международного сообщества к Румынии окончательно угас. Отныне на мировой сцене не находилось роли для эксцентричного антигорбачевско-сталинистского лидера маленькой восточноевропейской страны, пораженной жесточайшим экономическим кризисом. Если в какой-то мере Румыния и привлекала внимание Запада, то только в связи с главным вопросом: как долго удастся продержаться Чаушеску в изменившемся восточноевропейском климате и каков будет его конец?
Даже если некоторые делегаты и ощущали эти настроения, то они никак своих мыслей не выдали. Из 3308 участников съезда никто не проголосовал против переизбрания Кондукатора на пост генсека, не было среди них и ни одного воздержавшегося. После закрытия съезда на площади перед королевским дворцом собралась большая толпа, и супруги Чаушеску совершили ритуальный выход на балкон, купаясь в хорошо срежиссированном народном обожании. Толпа скандировала: «Чаушеску — народ», «Независимый социализм» и «Нет вмешательству». Эти три лозунга были утверждены отделом пропаганды ЦК как наиболее соответствующие моменту, укрепляющие бодрость духа Чаушеску и подразумевающие, что возникшее в последнее время противодействие режиму —дело рук вражеских агентов.
К слову сказать, бегство олимпийской чемпионки Нади Команечи и ее приезд в Нью-Йорк 1 декабря вызвал куда большее оживление в западной прессе, нежели XIV съезд РКП. И в конце концов дело Текеша, тянувшееся весь ноябрь и всю первую половину декабря, стало той искрой, из которой возгорелось яростное пламя.
16 декабря 1989 года большая толпа народа, в том числе женщины и дети, снова собралась перед домом Текеша. Этой же ночью большая группа молодежи прошла по центру Тимишоары, скандируя лозунги в его защиту. Но вскоре толпа начала кричать «Долой Чаушеску!», «Долой коммунизм!», «Даешь демократию!». Полиция и пожарные с водометами окружили демонстрантов, но весь город уже пришел в волнение. Другая группа демонстрантов, вдохновленная разгоравшимся бунтом, ворвалась в здание городского муниципалитета и местного комитета партии и стала выбрасывать из окон на улицу многочисленные досье, портреты Чаушеску и коммунистическую литературу; вскоре на улице вовсю запылали костры. Полиция и подоспевшие бронемашины открыли огонь, кося людей налево и направо. Секуритате собирала трупы и уносила их с собой, а смелевшая на глазах толпа кричала им вслед: «Отдайте наших мертвых!»
Известие о драматических ночных событиях в Тимишоаре, как огненный ветер, распространилось по всей стране, причем число жертв с каждым пересказом увеличивалось в геометрической прогрессии. С крушением коммунизма в соседних странах румыны обрели возможность своевременно узнавать новости, для этого им было достаточно настроить приемник на волну венгерского или восточноберлинского радио. Подогреваемые слухами и репортажами из Венгрии и Югославии люди жадно передавали из уст в уста сведения о 4 тысячах, потом о 6 тысячах и даже 40 тысячах убитых в Тимишоаре.
После 22 декабря по телевизору показали тела людей, якобы погибших от пыток в застенках Секуритате. В действительности трупы были «заимствованы» с кладбища бедняков в Тимишоаре и из больничных моргов (т. е. смерть этих людей наступила вследствие естественных причин), однако эти кадры оказали на румын колоссальное воздействие. В ту же ночь 16 декабря антиправительственный бунт вспыхнул в Араде и других городах Трансильвании. Наконец-то до сознания Чаушеску дошел тот неутешительный факт, что в Тимишоаре началось настоящее восстание, грозящее перекинуться на всю страну, и, что самое прискорбное, армия не принимает решительных мер против бунтовщиков.
Не желая признавать никаких обстоятельств, способных воспрепятствовать его зарубежной поездке, Чаушеску не отменил своего решения посетить Иран. Но перед отъездом (вечером 17 декабря) он провел с членами политического исполнительного комитета РКП бурное совещание по поводу произошедших в Тимишоаре событий. Записанное на пленку, это заседание поучительно во многих отношениях, и не в последнюю очередь благодаря сохранившимся словам Чаушеску, раскрывающим его трактовку дела Текеша. «Предлогом [для смуты] послужила история с так называемым «церковным реформатором», наказанным его собственными церковными властями и переведенным в другую область,— начал Чаушеску.— Он не хотел выезжать из дома. Тогда епископ обратился в суд, который вынес решение выдворить его оттуда». Чаушеску правильно излагал суть дела, но был не в силах признаться перед подчиненными, что дело о выселении было лишь предлогом, а истинной мишенью был сам священник.
«Здесь мы имеем дело с вмешательством иностранных кругов,— продолжал он,— с иностранной шпионской сетью, тянущейся из Будапешта… Более того, всем известно, что и на Востоке [т. е. в Москве] и на Западе хотят, чтобы в Румынии произошли известные изменения. И вот Восток и Запад взялись изменить течение событий в Румынии и пользуются для этой цели всеми возможными способами».
Затем Чаушеску яростно обрушился на тех, кто позволил жалким протестам перерасти в мятеж; особенно досталось здесь министру обороны генералу Василе Миле: «В руководстве министерства обороны и министерства внутренних дел процветают пораженческие настроения. Вчера вечером я разговаривал с ними и приказал устроить демонстрацию силы с применением танков… Я отдал приказ, а вы устроили какой-то парад… Вы должны были послать в центр города моторизованные подразделения. Вот что означает демонстрация силы. Так где же она? А что произошло с войсками министерства внутренних дел? У меня сложилось впечатление, что они вообще не были вооружены».
Министр внутренних дел Тудор Постелнику подтвердил правильность этого впечатления.
Чаушеску вскипел: «А почему, хотелось бы знать? Я ведь приказал, чтобы они были вооружены. Кто отдал такой приказ? Хулиганы врываются в партийные здания, нападают на солдат и офицеров, а те и в ус не дуют? Чем занимались ваши офицеры, Миля, почему они сразу же не вмешались, почему они не стреляли? Они должны были стрелять, сначала в воздух для предупреждения, затем — по ногам, чтобы их утихомирить… Врага нельзя победить молитвами, его надо уничтожить. Социализм не построишь ложью и заверениями в преданности, его возводят в борьбе. И мы будем сражаться за его построение. Сейчас по всей Европе идет капитуляция, подписываются пакты с империализмом об уничтожении социализма».
Чаушеску приказал шефу Секуритате генералу Владу принять участие в заседании. Когда через несколько минут Влад появился, гнев Чаушеску излился и на него. «Почему войска не были вооружены?» — спросил его Кондукатор.
«Я думал, что в этом нет необходимости»,— ответил Влад.
«А почему вы об этом мне не доложили? — закричал Чаушеску.— Я ведь разговаривал с вами всю ночь. С этого момента,— возвестил Кондукатор,— если политический исполнительный комитет не возражает, министр обороны, министр внутренних дел и начальник службы безопасности отстраняются от должности. С этого момента я становлюсь во главе армии. Подготовьте мне указ… Так больше не может продолжаться. Всю ночь напролет я говорю с ними каждые десять минут, а потом выясняется, что они не удосужились выполнить мои приказания».
Генералу Владу пришлось пережить еще одну жестокую выволочку. «Слыхали ли вы, что такое чрезвычайное положение?» — осведомился у него Чаушеску.
«Да, товарищ, я отдал об этом приказ»,— ответил Влад.
«Даже сейчас вы не желаете говорить мне правду»,— отрезал Чаушеску.
«Если бы хоть один солдат начал стрелять, они бы все тут же разлетелись, как куропатки,— вклинилась в разговор Елена Чаушеску.— Нужно было в них стрелять, а упавших — подобрать и бросить в камеры. Ведь так вам было приказано? Никто из них не должен был уйти».
Присутствующие смиренно признали, что вели себя недостойно. Чаушеску исторг из них клятву в следующий раз действовать более решительно. «Товарищ генеральный секретарь, я обещаю вам,— произнес министр внутренних дел Постелнику,— что такое больше не повторится. Пожалуйста, не лишайте меня своего расположения, и я делом докажу, на что способен».
Миля признался, что «вначале недооценил опасности». Влад уверил Кондукатора: «Выполняя ваши приказания, я приложу все силы, чтобы вновь заслужить ваше доверие».
Наконец Чаушеску немного смягчился и отменил свое решение уволить провинившихся. «Хорошо,— сказал он,— попробуем еще раз, товарищи».
Главное, чего так и не понял Чаушеску— даже когда совещание подходило к концу,— это то, что ключевые фигуры в исполнительном комитете уже созрели для предательства, ибо генерал Миля по-прежнему запрещал войскам стрелять в людей, а генерал Влад и не думал выполнять приказы. Он прекрасно понимал, что судьба их Кондукатора в любом случае незавидна: даже если демонстрантов удастся подавить силой, как того требовал Чаушеску, это позволит выиграть немного времени, но зато породит еще большую ненависть. Он знал также, что сегодня он лишь чудом удержался на своем посту и в следующий раз Чаушеску расправится с ним в одночасье. И уж у кого-y кого, а у Влада не было никаких иллюзий по поводу «иностранных агентов», благодаря интенсивной работе Секуритате он располагал достоверными сведениями о настроении простых румын. На совещании он едва избежал опалы и даже, возможно, ареста.
Честно говоря, трудно объяснить «чистосердечное раскаяние» членов Исполнительного комитета иначе, чем стремлением выиграть время, уйти от возмездия и выпутаться из безнадежного положения. Нельзя с полной уверенностью утверждать, что 17 декабря Миля и Влад замыслили «предательство», однако «самоубийство» Мили три дня спустя и постоянное мелькание Влада в министерстве обороны, ЦК и на ТВ в разгар декабрьских событий — вплоть до дня расстрела Чаушеску — явно свидетельствуют о том, что он и, по крайней мере, некоторые круги Секуритате были в сговоре с Фронтом Национального Спасения с самого начала бухарестских событий (если не раньше), что они составляли часть конспиративной сети, существовавшей, конечно, еще до того, как началось стихийное восстание масс. Главный вопрос, который меня сейчас волнует, заключается в следующем: как долго существовал этот заговор, и неужели народ Румынии, сотнями тысяч поднявшийся против ненавистной четы, был всего-навсего искусно спровоцирован на этот подвиг?
Заговоры
Приходится признать, что в последние годы царствования у Нашего Благодетеля успехов было несколько меньше, а проблем несколько больше.
Рышард Капусцинский. «Император».
Румынское декабрьское народное восстание, транслировавшееся ТВ на весь мир, а также побег и казнь Чаушеску с течением времени приобрели некоторый мифический ореол. Многие эпизоды событий, произошедших между 22 и 26 декабря, отпечатались в нашей памяти столь же ярко, как знаменитая фотография 1968 года, которая запечатлела южновьетнамского генерала Ло Ана, лично расстреливающего в Сайгоне вьет-конговца. В Восточной Европе, где тоталитарной марксистско-ленинской тирании уже был нанесен сокрушительный удар, падение последнего сталиниста вызвало живейший интерес и бурную радость. Каково же было негодование, когда вдруг выяснилось, что не только количество жертв сильно преувеличено, но и само восстание оказалось не вполне той спонтанной романтической революцией, какой оно вначале представлялось многим.
Эта новая информация породила в свою очередь два совершенно возмутительных и несостоятельных, на наш взгляд, предположения.
Первое (просмакованное вначале во французских средствах массовой информации, а затем в книге Мишеля Кастекса) состояло в том, что вся революция с ее дутыми цифрами потерь была тайно инспирирована Советским Союзом, который жаждал свержения Чаушеску и использовал послушные ему информационные агентства Восточной Германии и Венгрии для распространения всевозможных ложных сведений. Второе рассматривало восстание не как спонтанный акт, а как детально подготовленный заговор, во главе которого стояла небольшая группа военных и штатских чиновников из верхних эшелонов власти.
Как мы покажем ниже, мысль о свержении Чаушеску действительно зрела в узком кругу румынских высокопоставленных лиц. Однако было бы совершенно неправомочно принять циничную теорию о том, что восстание от начала до конца развивалось по тщательно разработанному сценарию. Скорее можно говорить, что события, начавшиеся 21 декабря в Тимишоаре, а затем перекинувшиеся на Бухарест, вся эта серия самопроизвольных демонстраций были очень быстро взяты под контроль небольшой группой опытных заговорщиков, ждавших своего часа по меньшей мере лет пять.
Чтобы понять смысл декабрьских событий 1989 года и уяснить, что побег Чаушеску был в некотором смысле предопределен, нужно вернуться на двенадцать лет назад, в период сильнейшего бухарестского землетрясения 1977 года.
Супруги Чаушеску в этот момент были в Африке, в одной из своих бесчисленных официальных поездок. И вместо того, чтобы немедленно начинать спасательные работы, дворня Чаушеску, оставленная им в Бухаресте, первые часы после катастрофы потратила на обсуждение содержания телеграммы, которой следовало оповестить Кондукатора о постигшем страну несчастье. И пока они обговаривали каждую фразу, каждый оттенок и каждое прилагательное, чтобы, с одной стороны, приуменьшить размеры катастрофы, а с другой — показать свою расторопность, драгоценное время было безвозвратно упущено. .
Для горстки недовольных опальных руководителей, подобно генералам Ионицэ и Милитару, еще с середины 70-х годов убежденных, что Чаушеску ведет страну к гибели, и ломавших голову, как от него избавиться, ситуация была предельно ясна: если чета Чаушеску отсутствует, в стране не принимаются никакие решения; следовательно, путч следует осуществить, когда Елена и Николае уедут в очередное зарубежное турне.
Конечно, Секуритате бдительно следила за всеми ведущими фигурами румынского истеблишмента, особенно за теми, кто попал в немилость, однако последние иногда изыскивали возможность видеться друг с другом, не привлекая внимания надсмотрщиков. Даже в самой Секуритате образовался узкий круг людей, недовольных сползанием страны в кризис и потому закрывавших глаза на разговоры злоумышленников. Более того, горстка людей в тайной полиции уже согласна была на роль связных, а некоторые подумывали и об активной роли в заговоре против Чаушеску. В действительности с 1971 года существовало несколько заговоров, из них лишь последний претворился в жизнь, ибо народное восстание дало шанс для долгожданного захвата власти.
Еще в 1970—1971, а затем и в 1975—1976 годах три армейских генерала, в том числе тогдашний министр обороны Ион Ионицэ, тайно обсуждали возможность переворота, но быстро пришли к выводу, что шансов на успех почти нет. Позднее, в начале 80-х годов, небольшая группа бывших государственных деятелей, как военных, так и штатских, осмелилась, правда, в крайне осторожных выражениях, сформулировать немыслимое: нужно избавляться от Чаушеску.
Самый крупный военный чин в маленькой группе заговорщиков 1983—1984 годов был все тот же Ион Ионицэ, бывший близкий друг Чаушеску. У него были веские основания для недовольства, ибо Чаушеску по своей гадкой привычке сначала возложил на него вину за ряд крупных государственных просчетов, не имевших никакого отношения к его ведомству, а затем в 1976 году под шумок и вообще отстранил от дел. Ионицэ был убежден, что необходимо жестоко расправиться не только с Чаушеску, но и с его «кухонным кабинетом», беззастенчиво потакавшим всем прихотям Кондукатора и уводившим его все дальше от реальности. Второй крупной военной фигурой, разделявшей данные взгляды, был отставной начальник штаба армии генерал Николае Милитару, пользовавшийся значительным авторитетом в среде высшего офицерства. Самым решительным образом был настроен третий член военной триады — бывший генерал-майор Штефан Костял, тот самый Костял, который в 30-х годах сидел в одной камере с Чаушеску. Костял, единственный из всех трех, действительно пострадал от режима: когда его вынудили уйти в отставку за то, что он женился на русской, Костял, упрямый мадьяр с великолепной военной выправкой, потребовал пересмотра дела и в 1971 году выступил перед военной комиссией с жесткой и подробной критикой деятельности Чаушеску. Результаты последовали незамедлительно: его лишили звания, перестали платить пенсию и сослали в далекую провинцию, где он был вынужден несколько лет проработать чернорабочим.
Дело Костяла вызвало отрицательную реакцию благодаря официальной легенде (успешно распространенной с помощью Секуритате в партийных кругах), что Костял — просто советский шпион. Это был весьма действенный способ дискредитации, поскольку Костял подобно всем членам старой гвардии, в том числе и Пырвулеску, до самого конца оставался ярым приверженцем советского курса.
В этот заговор вошли и несколько штатских, лидером которых стал Силвиу Брукан, занимавший при правительстве Георгиу Дежа сначала пост главного редактора газеты «Скынтейя», затем представителя в ООН и посла в Вашингтоне вплоть до 1963 года. Будучи старым коммунистом, Брукан был весьма сведущ в искусстве конспирации. Он пользовался несколько двусмысленной репутацией бывшего сталиниста и любителя выворачивать факты в свою пользу. Он, например, утверждал, что перестал служить Чаушеску, потому что с самого начала не доверял ему. Однако профессор Арделяну, а также былые коллеги и соратники по партии, вроде Малицы, подчеркивают, что к отставке Брукана привели, в первую очередь, его сталинистская репутация и тесная связь с Аной Паукер и так называемой «Одесской группой». С годами, правда, Брукан стал ценить связи с американцами и западноевропейскими интеллектуалами, начал (возможно, сперва просто в пику изгнавшему его режиму) довольно рискованно высказываться против политики Чаушеску, даже устанавливал контакты с западными дипломатами, аккредитованными в Бухаресте, и посещал западных журналистов.
Через доверенных связных и посредников Брукану, Ионицэ и Милита-ру удалось обменяться своими крамольными взглядами и даже выработать предварительный план нейтрализации верной клики Чаушеску — людей типа Илие Чаушеску, Бобу, Постелнику, а также Иона Комана (члена ЦК, ответственного за координацию действий суда, Секуритате и армии), и осуществления переворота в отсутствие Чаушеску. Для реализации подобных планов нужно было установить сотрудничество с членом «заветного круга» Чаушеску — кем-нибудь из Исполнительного комитета РКП, поскольку сведения о передвижениях Кондукатора держались в таком секрете, что даже армейские генералы не знали заранее, когда и куда он отправится.
Они принялись составлять список офицеров, склонных, по их мнению, к сотрудничеству и в итоге остановились на нескольких именах. Когда я спросил, фигурировало ли в списке имя Виктора Стэнкулеску (генерала, организовавшего суд и казнь Чаушеску), Костял ядовито ответил, что привлечение Стэнкулеску было бы равносильно немедленному провалу заговора. «Он был на короткой ноге с генералом Илие Чаушеску, братом Николае, и считался в армии ищейкой Чаушеску»,— добавил Костял. Однако, по его словам, в Исполнительном комитете партии все же нашелся человек, который снабжал их ценной предварительной информацией об «экскурсионных» планах Чаушеску; существовало также несколько генералов, хотя и не захотевших примкнуть к заговору, но согласных хранить о нем молчание. Еще одной весомой фигурой заговора был полковник Секуритате по фамилии Мэгуряну, обладавший большими связями в этой структуре.
План переворота предусматривал захват радио и ТВ, что спровоцировало бы, по мысли заговорщиков, массовые демонстрации по всей стране. Но они прекрасно понимали, на какой риск идут: на стороне Чаушеску безоговорочно остались бы войска Секуритате и части «спецназа» общей численностью до 25 тысяч человек. Сами заговорщики могли безусловно опереться только на часть, охранявшую склад боеприпасов и вооружения в Тырговиште.
На этом этапе, в 1984 году, заговорщики отнюдь не собирались покончить с коммунистическим режимом как таковым; они скорее хотели восстановить коммунистическую законность, по их убеждению, грубо попранную Чаушеску. По традиции первый секретарь избирался ЦК, но Чаушеску, для того чтобы занимать этот пост пожизненно, изменил устав и позволил послушному Великому Национальному Собранию вновь и вновь переизбирать его на эту должность.
Конспираторы неоднократно обсуждали кандидатуру возможного преемника Чаушеску, того, кто смог бы ввести в стране «коммунизм с человеческим лицом» и восстановить партию в ее «законных правах»; в итоге все дружно сошлись на кандидатуре Иона Илиеску. Когда об этом решении через посредника оповестили самого Илиеску, он ответил несколько двусмысленно, в том духе, что он-де не будет принимать активного участия в заговоре, но в случае успеха последнего готов служить общему делу, если его об этом попросят. Костял подтвердил, что тайные переговоры с Илиеску были эпизодическими и крайне туманными.
Заговор 1984—1985 годов провалился, участники не успели осуществить ни единой акции. Причина была довольно простая: слишком много людей оказались втянутыми в его орбиту. Брукан считает, что их выдали два армейских генерала — Гомою и Попа. Поскольку заговорщики все же соблюдали элементарные правила конспирации, то детали плана были известны лишь Костялу, Милитару и Брукану. Два «осведомителя» знали только, что нечто затевается в связи с поездкой Чаушеску в Западную Германию, назначенной на октябрь 1985 года, и что пехотная дивизия, дислоцированная в Бухаресте, имеет к этому какое-то отношение. Перед самым отлетом в Бонн, повинуясь якобы внезапному решению, Чаушеску отдал дивизии приказ покинуть Бухарест и помочь крестьянам в уборке урожая; одновремено с этим он сменил командира дивизии. Этого было достаточно, чтобы убить замысел в зародыше.
Правда, вскоре Костял обнаружил — исходя из вопросов, которые ему задавали в Секуритате,— что тайной полиции известно о заговоре гораздо больше, чем могли поведать ей люди, не принимавшие непосредственного участия в разработке плана. /
Действительными предателями, и в этом Костял убежден по сей день, оказалась группа так называемых диссидентствующих чиновников Секуритате (как штатских, так и военных), неразумно привлеченных к заговору генералом Милитару, который, по утверждению Костяла, совершенно не подозревал об их двурушничестве. Эти пресловутые диссиденты от Секуритате исправно передавали Чаушеску все детали заговора по мере их разработки. В действительности, сказал мне Костял в октябре 1990 года, Секуритате провела блистательную дезинформационную операцию. «Николае Чаушеску знал обо всем с самого начала,— утверждал он.— Сотрудник Секуритате Вирджил Мэгуряну, имевший самое непосредственное отношение к заговору 1984—1985 годов, был самым настоящим провокатором. Он и другие офицеры тайной полиции притворялись, что помогают нам, а сами все время вели двойную игру». По иронии судьбы, сразу же после свержения Чаушеску Мэгуряну встал во главе Румынской разведывательной службы (постчаушескинского варианта Секуритате) и, таким образом, оказался одним из самых могущественных людей в Румынии.
Трудно поверить, но после 1985 года Костял был единственным заговорщиком, подвергшимся преследованию со стороны Секуритате; Брукан и Милитару получили лишь строгое устное предупреждение ни при каких обстоятельствах не встречаться друг с другом. В один прекрасный день полицейские явились в маленькую бухарестскую квартирку Костяла и арестовали его «за незаконное хранение валюты» — несколько монет общим достоинством в 2 доллара из детской коллекции его сына. Чаушеску всеми силами пытался поддержать видимость, что в Румынии не существует такого явления, как политический преступник. Костял был вновь сослан в провинцию, в город Куртя-де-Арджеш.
В 1989 году Костял вернулся в Бухарест, но оставался под постоянным наблюдением Секуритате. «У сыщика из Секуритате был ключ от моей квартиры,— рассказывал он,— и он наведывался ко мне, когда хотел, да к тому же пил на халяву мою цуйку (румынскую сливянку)». В феврале 1989 года Брукан оказался инициатором и одним из шести «подписантов» открытого письма Чаушеску с критикой его руководства (письмо подписали также Апостол, Бырлэдяну, Мэнеску, Пырвулеску и Рэчану). Вопреки неусыпной слежке Брукану удалось через третьих лиц возобновить тайную связь с генералом Милитару. Разумеется, в 1989 году положение было уже совсем иным: генерал Ионицэ умер (в 1986 году), а румынский народ (за исключением малочисленной группы высших номенклатурных работников) терпел ужасающие лишения — страдал от нехватки электричества, еды и предметов первой необходимости. Даже сотрудники Секуритате и партийные боссы ощущали на себе воздействие чаушескинс-кого режима экономии и равнодушия Кондукатора к жизненным условиям его сограждан. За пределами Румынии страны Варшавского пакта готовились к решительному разрыву с коммунизмом. Заговорщики понимали, что любое их действие немедленно вызовет народный взрыв.
Милитару, сам находясь под постоянным наблюдением, ухитрился в течение первых шести месяцев 1989 года связаться через посредников с двадцатью генералами и другими высшими командными чинами румынских военно-морских и военно-воздушных сил, а также наладить контакт с Бруканом. Костял был весьма ограничен в своих действиях, его телефон и квартира прослушивались, машина Секуритате безотлучно стояла у подъезда его дома. Не имея свободы маневрирования, Костял решил письменно напомнить румынам, что он по-прежнему занимает твердую античаушескинскую позицию. Он принялся писать «открытое письмо Чаушеску», сперва надеясь опубликовать его либо в парижской «Либера-сьон», либо в какой-нибудь немецкой газете. Он рассчитывал воспользоваться каналами связи через Раду Филипеску, влиятельного чиновника из министерства здравоохранения, отца хорошо известного диссидента. Однако попытки пробиться в газету не увенчались успехом, и неоконченное письмо открыто лежало у Костяла на столе, где, он знал, его обязательно увидят и сфотографируют сотрудники тайной полиции. В этой форме противостояния была известная логика: Костял хотел, чтобы сыщики из Секуритате думали, что он, в подражание Брукану, намерен выступить с открытым протестом и не замышляет ничего тайного. И Милитару и Брукан вновь попытались связаться с Илиеску, но на этот раз тот оказался еще более осторожным и неприступным. Снова и снова, прибегая к посредникам, Костял призывал Милитару и Брукана убедить Илиеску принять более активное участие в заговоре. «Чего мы дожидаемся? — вопрошал он Милитару в записке, тайно переданной в марте 1989 года.— Надо действовать!» Илиеску, по словам Костяла, продолжал твердить, что еще не время. В апреле 1989 года Костял еще раз попытался ускорить события. «Если Илиеску не хочет помочь,— передал он Брукану и Милитару со связным,— то оставим его и все сделаем сами». Милитару давал уклончибые ответы.
Костял продолжал шлифовать открытое письмо Чаушеску. Он намеренно включил в него ряд мыслей, изложенных им перед военным комитетом еще в 1971 году, зная, что многие военные уловят сходство и придут к определенным умозаключениям. Он хотел вдохновить румынских офицеров, убедить их, что сопротивление Чаушеску возможно и осуществимо, что он, Костял, еще двадцать лет назад прибег к этим действиям, задолго до того, как Румыния дошла до такого ужасного состояния.
2 июня 1989 года Секуритате решила допросить Костяла. На этот раз он был готов к встрече. Предупреждая очередные нелепые обвинения в том же духе, что и в 1984 году, когда ему инкриминировали незаконное хранение валюты, он с порога заявил вызвавшему его на допрос офицеру: «Если собираетесь арестовать меня, то арестуйте за дело, и давайте поговорим о Чаушеску»,— потом вспылил и предупредил, что в один прекрасный день тот тоже будет арестован. Костяла сразу же обвинили в «оскорблении государственного лица». Затем последовала долгая игра в кошки-мышки. Костяла допрашивали в местном отделении Секуритате весь день, но вечером отпустили домой. На следующий день его опять привезли на допрос. Так продолжалось две недели. Потом его продержали в Секуритате сутки и подвергли более жесткому допросу. Однако допросы не носили целенаправленного характера; очевидно, Секуритате не подозревала, что Костял является составным звеном заговора против Чаушеску, а просто пыталась отвадить его от любой дальнейшей «ан-тикондукаторской» активности. «Какая муха тебя укусила? — спросил его один сотрудник Секуритате.— Ты что, действительно хочешь свободы, как в Венгрии, с барами для голубых, натыканными по всему Будапешту?»
В это время жена Костяла была в России, но когда она вернулась в Бухарест, Костяла немедленно отпустили; видимо, Секуритате боялась, что та может обратиться в советское посольство с просьбой разыскать мужа, а румынская тайная полиция всегда была крайне чувствительна к вещам подобного рода. С момента возвращения жены Костял ежедневно стал заходить в советское посольство, не для того, разумеется, чтобы встречаться с дипломатами, ибо у него не было здесь контактов, а просто чтобы почитать газеты и посидеть в библиотеке. Весь смысл заключался в том, чтобы Секуритате думала, будто у него налажен контакт с посольством, которое, в случае его «исчезновения», может поднять вокруг его имени шум. «Это была форма самозащиты,— рассказывал Костял.— Брукану, например, регулярно звонили американские и английские дипломаты, чтобы удостовериться, что он жив и здоров».
В октябре Секуритате приказала ему не уезжать из города и ни с кем не видеться. Он попытался устроить «случайную» встречу в супермаркете с Раду Филипеску, однако безуспешно, поскольку в магазине его со всех сторон обступили сотрудники Секуритате, следившие за ним неотступно. Они радостно приветствовали его: «Эй, какими судьбами? Рады видеть тебя! Какой сюрприз!» Жена Костяла решила еще раз съездить в Москву.
* Втайне Костял очень переживал, что остальные заговорщики, особенно Илиеску, проявляют такую пассивность. Он не мог понять, почему ничего не происходит, и смутно чувствовал, что его выводят из игры, что его считают слишком нетерпеливым, слишком напористым.
У него мелькнула мысль незаметно скрыться из Бухареста и приехать в Тимишоару, где у него было много друзей, однако он быстро отказался от этой идеи, понимая, что подвергнет их большому риску.
День шел за днем, в Тимишоаре начались беспорядки, но по-прежнему ничего не происходило. 20 декабря Костялу позвонила жена и сказала, что она прилетает на следующий день. 21 декабря под неотвязным конвоем машины Секуритате Костял отправился в аэропорт встречать жену. Она не прилетела, но пока он ждал в аэропорту, пришла весть о начале революции: толпа только об этом и говорила. Как и многие тысячи румын, Костял всю ночь бродил по улицам, празднуя свержение диктатора: машина Секуритате, между тем, исчезла. Однако Костял старался по возможности не отходить надолго от телефона; он был уверён, что его собратья по заговору позвонят ему. Но телефон молчал…
На следующий день машины Секуритате у подъезда опять не было видно. Утром Костял отправился на площадь у здания ЦК, которая находилась всего в 500 шагах от его квартиры. Он пришел как раз в тот момент, когда перегруженный вертолет, ведомый подполковником Василе Малу-цаном, с трудом взлетел с крыши ЦК. Кто-то в толпе узнал Костяла и закричал: «Это Костял, он против Чаушеску!», но генерал его одернул. «Мне не нужны были признания такого рода,— рассказывал он.— Мне нужны были результаты».
Костял помнил, что, согласно планам, разработанным в 1984—1985 годах, заговорщики должны собраться в здании министерства обороны. Он направился туда, вошел через главный вход и потребовал встречи с дежурным офицером. «Как доложить?» — спросил его солдат на вахте.— «Генерал Костял»,— ответил он и вскоре предстал пред очами генерала Стэнкулеску, сидевшего с загипсованной от лодыжки до колена ногой. «Все спокойно, войска в казармах»,— доложил Стэнкулеску, обращаясь к нему как к старшему по чину. Костял немедля приступил к делу. «Где генерал Илие Чаушеску?» — спросил он. «В своем кабинете»,— ответил Стэнкулеску. «Я не поверил,— вспоминал потом Костял,—• и пошел удостовериться сам». Действительно, брат Чаушеску сидел за столом в своем кабинете как ни в чем не бывало. Возвратясь в кабинет Стэнкулеску, Костял сказал: «Арестуйте этого человека». Стэнкулеску заюлил. «Мы потом это обязательно сделаем»,— заверил он. «Нет, вы это сделаете сейчас,— сказал Костял.— И еще, пошлите транспорт и привезите сюда Илиеску, Милитару и Корнелиу Мэнеску [бывшего министра и одного из заговорщиков]». И снова Стэнкулеску стал увиливать. В данный момент машину достать невозможно, сказал он, кроме того, он не знает, где эти люди живут. Сам он не может передвигаться из-за перелома ноги.
Костял был убежден, что Стэнкулеску просто «выжидал, чья возьмет верх». Во время его разговора со Стэнкулеску вошел офицер и доложил, что по телевизору показывают выступление генерала Милитару. Костял приказал офицеру позвонить на телестанцию: «Передайте генералу Милитару, что генерал Костял находится в министерстве обороны и ждет его к себе немедленно». Стэнкулеску продолжал жаловаться на ногу; он сломал лодыжку, говорил он, и ему очень больно ходить. Костял твердо убежден, что Стэнкулеску попросил медсестру наложить ему гипс и успешно симулировал «перелом». Совсем недавно Чаушеску направил его в Тимишоару на подавление беспорядков, и тот честно выполнил приказ Кондукатора: Тимишоара была одним из тех немногих мест в Румынии, где армия стреляла в демонстрантов — хотя, как гневно заметил Чаушеску на заседании 17 декабря 1989 года, и не настолько активно, чтобы окончательно погасить смуту. После «самоубийства» министра обороны, генерала Мили, Стэнкулеску был отозван в Бухарест, и Костял уверен, что Чаушеску намеревался сделать его министром.
Вскоре в кабинете Стэнкулеску появились Илиеску, Милитару, а также генерал Юлиан Влад в окружении небольшой группы людей. Рядом с Илиеску терлись двое штатских, которых Костял никогда прежде не видел. «Зачем тебе телохранители,— сказал Костял Илиеску.— Убери их отсюда». «Нет-нет,— ответил Илиеску,— это люди моей команды». Костя-лу сказали, что их зовут Джелу Войкан Войкулеску и Петре Роман. Роман вскоре после этого стал премьер-министром, а Войкан был той мистической фигурой, которая приложила руку к суду над Чаушеску 25 декабря 1989 года.
Слова Петре Романа (в интервью французскому телевидению) о том, что он оказался в здании ЦК «случайно», звучали крайне неубедительно. С момента известных событий, сначала внутри здания ЦК, затем на телевидении, Илиеску и Роман неоднократно обнаруживали поразительное, почти сверхъестественное взаимопонимание. Их судьбы (оба вышли из семей румынских сталинистов-коммунистов) были на удивление схожими. Как известно, Чаушеску всегда благоговел перед людьми, подобными Вальтеру Роману, одному из легендарных участников интернациональных бригад, возможно, потому, что их бурное прошлое так разительно отличалось от его собственной однообразно-трудовой юности. По выражению профессора Арделяну, «таким людям, как Вальтер Роман, Чаушеску не мог отказать ни в чем». Во всяком случае, свою юность Петре Роман провел в куда более привилегированных условиях, нежели некоторые племянники Чаушеску. Как утверждала Надя Бужор: «Я бы никогда не смогла себе позволить роскошь жить во Франции пять лет, приезжая и уезжая, когда мне вздумается». Говорят, президент Франсуа Миттеран был весьма раздражен грубостью французских телерепортеров, тщетно пытавшихся расспросить Петре Романа о его прошлом. В «системе», созданной Чаушеску, тот, кому разрешалось жить пять лет во Франции, должен был дать «железобетонные гарантии режиму», сказал своему помощнику проницательный и циничный французский президент.
С самого начала, вспоминал Костял, он почувствовал, что тяготит Илиеску, «нежелателен» и что, несмотря на все его заслуги в организации заговоров в 1984 и 1989 годах, Илиеску предпочитает закладывать основы Фронта Национального Спасения с новыми людьми, в число которых входят Роман и Войкан. Было совершенно ясно, что Илиеску вознамерился взять бразды правления в свои руки; от его былой нерешительности не осталось и следа. На повестке дня стоял вопрос о названии организации, долженствовавшей под предводительством Илиеску «взять на себя ответственность за судьбу нации».
Костял предложил назвать ее Народным фронтом, но Илиеску отверг это предложение, сказав, что Фронт Национального Спасения звучит гораздо лучше.
Вслед за этим Илиеску «со товарищи» стали подбирать кандидатуры на посты в ФНС. Назывались различные фамилии, в том числе и генерал армии Буркэ. Илиеску сказал, что это подходящий человек на пост министра обороны. Костял снова возразил, напомнив, что Буркэ отказался участвовать в заговоре 1984 года, хотя, правда, не стал и предателем.
У Костяла разгорелся также горячий спор с Илиеску по поводу судьбы Румынской коммунистической партии. Илиеску и его сторонники хотели ее распустить, а Костял желал «положить ей конец достойно», предложив созвать специальный съезд, как то сделал Дубчек в 1968 году, чтобы реформировать партию изнутри. Группа, прибывшая вместе с Илиеску, планировала вернуться в здание ЦК; никто не пригласил Костяла следовать за ними. «Тебе лучше остаться здесь,— сказал ему Милитару,— можешь присоединиться к нам позже, если захочешь». Стэнкулеску ушел вместе с Илиеску, чтобы, по выражению Костяла, «остаться с ним уже навсегда». Где-то между делом он снял гипс, ибо ни 23 декабря, ни позже никаких признаков перелома его нога больше не обнаруживала. Костял был глубоко уязвлен, как бесцеремонно его отодвинули в сторону.
Однако, проглотив обиду, Костял все же появился в здании ЦК в этот день. Вначале наспех созданная революционная охрана вообще не хотела пропускать его внутрь, но он в итоге пробился и пошел на поиски Илиеску, Милитару и остального ядра Фронта Национального Спасения. Везде царила суета и неразбериха, вспоминал он. «Мне сказали, что они на шестом этаже, но их там не было. Господствовало боевое настроение, у окон стояли молодые солдаты с автоматами наготове и стреляли куда попало, бесцельно изводя огромное количество патронов».
На четвертом этаже Костял обнаружил охранников с повязками на рукаве, стороживших нечто вроде оперативного штаба. Они тоже вначале не хотели пропускать его, но в итоге ему снова удалось миновать кордон. «Илиеску там не было,— рассказывал Костял,— но я увидел генерала Влада, Аврама (бывшего министра промышленности) и помощника Илиеску Н. С. Думитру».
Отдельные снайперы еще продолжали активные действия в городе, и по ним велся ответный огонь из танков и бронемашин; при этом расходовалось огромное количество боеприпасов. Костял указал Думитру, что солдатам, стреляющим из окон куда попало, можно найти лучшее применение, поставив их охранять подъезды к подземным тоннелям здания, поскольку в глубине этих тоннелей были расположены бункеры с хорошо налаженной системой теле- и радиосвязи, с запасами еды и вооружения. Как пояснил Костял: «Я боялся, что ударные отряды 5-й дивизии Секуритате готовят контратаку». Поведение Влада, вспоминал Костял, было весьма двусмысленным: «Он притворялся верным слугой революции, но, по моим наблюдениям, намеренно вносил сумятицу и неразбериху». Влад вышел на связь с генералом Мучану, ответственным за противовоздушную оборону в районе аэропорта Бэняса, и устроил ему разнос по телефону, обвиняя его в предательстве. «Я знаю Мучану,— сказал Костял Владу,— он не предатель, у него честные намерения».
Под влиянием мгновенно принятого решения и понимая, что в Бухаресте ему не найдется применения, Костял высказал желание поехать в Бэнясу на помощь Мучану. Был издан приказ о том, чтобы все самолеты оставались на земле, и у Мучану хлопот был полон рот; к тому же он чрезвычайно опасался возможного налета румынских «ками-кадзэ» — преданных Чаушеску подразделений Секуритате. Костял отправился в Бэнясу и пробыл там до 26 декабря. В течение этих трех дней произошло несколько атак на аэропорт; много хлопот доставили также запущенные тайной полицией аэростаты, имитирующие вертолеты и сбивающие с толку радары.
Пока 22 декабря Костял тщетно искал заговорщиков, они, т. е. Илиеску и ядро ФНС, как ни в чем не бывало заседали в здании ЦК, правда, в комнате, которую Костял так и не смог найти. Магнитофонная запись заседания, сделанная без ведома руководящей группы, свидетельствует о неописуемой неразберихе, царившей в зале. Илиеску все время безуспешно порывался поговорить по телефону со Стэнкулеску (который находился на другом этаже, очевидно, уже разрабатывая сценарий суда над Чаушеску), в то время как Роман критиковал первый вариант воззвания ФНС («в нем нет ничего для людей, стоящих за стенами здания»). И перекрывая весь этот гвалт, вдруг раздался голос охранника, сторожившего вход в комнату: «Здесь Апостол. Он хочет войти». В ответ прозвучало (Илиеску?): «О Боже!» а Роман сказал: «Делай, что хочешь, но его не пускай!» На пленке слышно, как генерал Милитару говорил о Фронте Национального Спасения: «Но этой организации уже шесть месяцев, она уже существовала за шесть месяцев до революции!» На этом этапе еще присутствовало много «стихийных» вождей, подобно поэту Мирче Динес-ку, знаменитому актеру Иону Карамитру (который на короткое время стал вице-президентом), были и другие случайные участники, вроде военного архитектора майора Лукоя, который 21 декабря в военной форме прошел в здание ЦК «просто как представитель армии», конечно, ничего не зная о существующем заговоре.
Изучая магнитофонную запись, можно заключить, что на этом этапе Илиеску прежде всего волновал вопрос, как придать захвату власти видимость законности. На заседании присутствовал старый экономист Бырлэдяну, который очень беспокоился за международный престиж Румынии: «Мы должны заявить, что сохраняем все договоренности и не намерены менять курс». Он очень волновался, как бы Горбачев не подумал, что Румыния собирается покинуть социалистический лагерь. Илиеску на это ответил: «Я уже связался с Советским Союзом и объяснил ситуацию, так что они передадут в Москву, кто мы такие и чего мы хотим».
Он, несомненно, имел в виду советское посольство, однако его замечание никак не свидетельствует о причастности Советского Союза к заговору. Напротив, его слова скорее доказывают, что СССР (чей посол во время беспорядков в Тимишоаре был в отпуске) прямо не замешан в этих тайных замыслах. Правда, его заявление можно истолковать как прямое свидетельство того, что советские дипломаты знали Илиеску, однако в этом не было ничего необычного: как самый высокопоставленный «пассивно-диссидентствующий» румынский коммунист Илиеску был тем лакомым куском, на который любой уважающий себя дипломат не мог не положить глаз. Роман также проявил необычайную активность в дискуссиях. Кто-то пытался его окоротить («Никто не знает, кто ты такой»), но Роман возразил: «Нет, знают. Это я читал воззвание по ТВ, и я знаю людей в венгерском посольстве. Я даже разговаривал с венгерским министром обороны». Илиеску затем указал на другую необходимую задачу— объявить амнистию и освободить политических заключенных. В переполненной комнате собрались не только лидеры ФНС; здесь также был Брукан — участник заговоров 1984—1985 и 1989 годов, студенты, рядовые демократы, то поддерживавшие, то критиковавшие выступающих. Стоял ужасающий шум. В какой-то момент послышался возглас молодого человека: «В новое правительство должны войти люди, непосредственно начавшие революцию и участвовавшие в ней». Его заставили замолчать и вывели из зала.
Внезапно один из присутствующих объявил (очевидно, в результате неправильно понятых замечаний Костяла), что Секуритате подложила бомбу замедленного действия, которая теперь тикает где-то внутри здания. «Пойдемте отсюда»,— прозвучал голос Романа. Собрание лихорадочно закончилось, и все двинулись к румынскому телецентру. Здание ЦК все еще наводняли сотни людей, большей частью демонстранты с площади. Никто не позаботился предупредить невинных простаков о бомбе (к счастью, воображаемой).
По настоянию Брукана 24 декабря был арестован генерал Влад. Через месяц Костяла, вернувшегося после 26 декабря в свою бухарестскую квартиру, вызвали в министерство обороны. Вместе с четырьмя другими бывшими генералами-резервистами его официально восстановили в чине отставного генерал-майора и назначили пенсию, соответствующую размеру его жалованья перед увольнением, т. е. 4500 лей в месяц. Полковника Секуритате, который почти ежедневно допрашивал Костяла летом 1989 года, отправили на пенсию, и он теперь получает 6500 лей в месяц.
В феврале 1990 года Милитару и Костял выяснили по телефону отношения и полностью примирились. Милитару убеждал Костяла, что его попросту обманули и во время революции он не мог действовать иначе. Он высказал также опасение, что Илиеску пытается отделаться от него. «Уйди сам,— посоветовал ему Костял.— Не позволяй им выкинуть тебя». На следующий же день Илиеску, не на шутку озабоченный ростом антиправительственных демонстраций, вызвал к себе Милитару и попросил его подать в отставку, якобы подозревая его в некоторой сопричастности этим беспорядкам. «Человеком, который подтолкнул его (Илиеску) к этому поступку,— сказал Костял,— был Стэнкулеску. Яго в революции еще страшнее, чем в любви».
«Смена верхов — радость для дураков»
(Старая румынская пословица)
Все революции пожирают своих детей, но румынская отличалась особой плотоядностью. В силу своей двойственной и несколько подозрительной природы она, не успев проглотить детей, тут же изрыгнула их обратно. Острое разочарование, пришедшее на смену первоначальной радости, облегчению и надежде, невыносимой болью отозвалось в сердцах простых румын.
Легко понять их уныние: они так настрадались от коварной, безумной и глупой четы, создавшей мощный аппарат угнетения и державшей их в многолетнем психологическом страхе. По иронии судьбы Чаушеску в конце концов сам стал жертвой собственной системы; тот самый высококвалифицированный орган безопасности и дезинформации, отцом-благо-детелем которого он являлся, дезинформировал его самого относительно степени лояльности и законопослушности румынского народа.
Другие восточноевропейские страны по праву гордятся тем, как они боролись со сталинизмом и коммунистической бюрократией. Румыны же могут только оплакивать тот день, когда они провозгласили Чаушеску символом новой, «либеральной» эры. Им понадобилось всего несколько лет, чтобы понять, что антисоветизм и национализм не обязательно тождественны либерализму и что можно бросить вызов Москве и при этом быть еще ббльшим тираном, нежели правители советской империи, которым Чаушеску так успешно противостоял.
Оглядываясь назад, многие румыны испытывают чувство раскаяния не только за то, что подыгрывали системе, но и за то, что позволили ей так долго влачить свое существование. К концу жизни Чаушеску был сущим демоном, но демоном изрядно полинявшим, из давно устаревшей мифологии. Вот что рассказал мне Кеннет Очинклосс, редактор «Ньюсуик» и последний западный журналист, бравший у Чаушеску интервью (за четыре месяца до его смерти): «И вот этот маленький человечек вошел в комнату;
в нем не было ни импозантности, ни обаяния, ни красноречия. Он производил впечатление жалкого существа, совершенно выключенного из реальной жизни Румынии, живущего в прошлом, в мире грез». В интервью «Ньюсуик» Чаушеску начисто отрицал как трудности любого рода, так и наличие недовольства. Он был достаточно осведомлен о неприглядной репутации Сталина (по крайней мере, в западном мире) и потому настоял, чтобы его похвалы Сталину как «человеку порядка» не записывались, но это было, пожалуй, единственным свидетельством его связи с реальностью. По-настоящему Кондукатор оживился лишь тогда, когда заговорил о славных днях 1968—1970 годов. Гуляя с Очинклоссом по саду в Брашове, он предавался бесконечным воспоминаниям о разговорах с Менахемом Бегином. Указав на садовую скамью, он заявил: «Вот здесь сидел Бегин, когда разрабатывал то, что обернулось потом Кемп-Дэвидс-ким соглашением», беззастенчиво преувеличивая при этом свою посредническую роль.
К этому времени Чаушеску был желанным гостем только в кучке африканских и ближневосточных стран. Он не мог не заметить поведения представителей госдепартамента во время его последнего визита в Соединенные Штаты (в 1977 году при Картере) — те дали понять, что сожалеют о его приезде и что больше никогда его не пригласят. Кондукатора, очевидно, также посещало предчувствие смерти: последнюю неделю перед казнью он читал на сон грядущий напечатанный специальными крупными буквами доклад Секуритате об обстоятельствах смерти египетского президента Анвара Садата, убитого в 1981 году.
Окидывая взглядом прошлое, невольно поражаешься, как ему вообще удалось так долго продержаться, ибо к середине 80-х годов отнюдь не только простые румыны испытывали ненависть к супругам Чаушеску: сама Секуритате в большинстве своем была настроена против него. В последние годы правления Чаушеску ненависть проникла даже в ряды номенклатуры и его нерушимого оплота — «коммунистических застрельщиков», в чью обязанность входила подготовка «народного признания» в виде празднеств и массовых митингов. К концу даже работники Секуритате, выслеживающие диссидентов, и телохранители семьи Чаушеску, возвращаясь домой, видели полуосвещенную квартиру и измученную очередями жену; так что лицезрение самодовольной, маниакально-спесивой четы, греющейся в лучах собственного культа, вызывало всеобщий праведный гнев, а сами супруги уже воспринимались как персонажи «черных» анекдотов. Чиновники ЦК открыто жаловались гостям на ухудшение своего жизненного уровня и ужасные условия труда, ибо к середине 80-х годов супруги Чаушеску совершили главную, непростительную для гангстеров ошибку: они перестали заботиться о своих подручных. Алчность поглотила их целиком, а к народу, пассивно сносившему это «божественное правление», кроме презрения, они ничего не испытывали.
Когда разразились события 21—25 декабря 1989 года, переданные по ТВ прямым эфиром на весь мир, большинство людей на Западе совершенно неправильно истолковали происходящее. По их мнению, для того чтобы вызвать такой взрыв ярости и ненависти, Чаушеску должен был быть чудовищем на манер Нерона и Калигулы, чуть ли не вампиром из «готического» фильма ужасов.
В действительности он таковым не был; его злодеяния облекались в более двусмысленную форму. Возможно, самой отвратительной чертой диктатуры Чаушеску была не жестокость, а мелочная гнусность; несмотря на всю ненависть, которую эта диктатура породила, она никогда не была кровавой. Да, страх, как густой туман, окутывал Румынию, но в ней не существовало гулагов, пыток и массовых исчезновений на сталинский манер. При разгоне «шахтерами» демонстрантов в Бухаресте 14—15 июня 1990 года (через полгода после смерти Чаушеску) проломлено голов и пролито крови было больше, чем за два последних года правления Кондукатора.
И скорее воспоминания о психологической, нежели физической жестокости Чаушеску заставляли седовласых мужей плевать на портрет Кондукатора и сокрушаться, что он умер слишком легкой смертью в то роковое Рождество 1989 года. Их жажда мести, столь долго таимая и наконец с яростью вырвавшаяся наружу, проистекала от стыда за впустую прожитые годы, ибо величайшая безнравственность чаушескинс-кой эпохи заключалась в том, что элементарное человеческое благополучие — повышение по службе, комфортабельное жилище, хорошая зарплата, минимальные материальные блага — все то, что в других обществах достается людям по праву, в коммунистической Румынии приобреталось не иначе, как в обмен на душу, как подачка за «предательство друзей, соседей, сослуживцев», а в результате оказывалось, «что награда была ничтожно мала» (как с грустью признался один румынский тележурналист, размышляя о собственном нравственном перерождении в сторожевого пса режима).
Память об этих деяниях никогда не изгладится из души многих румын, и память эта столь же горька, как и воспоминания бывших узников ГУЛАГА и нацистских концлагерей. И те и другие получили ужасную травму, но в случае с румынами травма была главным образом психологическая, а не физическая, если, конечно, не считать последствий недоедания, подпольных абортов и смерти престарелых людей, которым отказывали в лечении «по возрасту». Наверно, Чаушеску все же знал об этих фактах, но весьма вероятно, что он мог пребывать в полном неведении относительно сиротских приютов, переполненных больными СПИДом, и брошенных детях, которых упрятывали в психиатрические больницы, поскольку врачи усиленно скрывали от него (особенно в последние годы) все сведения, способные омрачить лелеемый Кондукатором образ Румынии как земного рая для трудящихся.
Эта легенда о «рабочем парадизе» была частью марксистско-ленинско-сталинской мифологии. Но хотя Чаушеску всегда выказывал открытое презрение религиозным институтам и подчеркнутое уважение рабочему классу («Я буду давать ответ только Великому Национальному Собранию и представителям рабочего класса»,— говорил он своим обвинителям в последние часы его жизни), его слова — не более чем клишированная абстракция. В реальной жизни он был способен разговаривать с простыми рабочими лишь в официальной и строго контролируемой ситуации. «Я всегда был недостаточно хорош для него,— сказал Флоря, двоюродный брат Николае, живший через дорогу от него в родной деревне Скорничеш-ти и всю жизнь проработавший фермером и деревенским кузнецом, типичный образец радушного и трудолюбивого крестьянина и «сельского пролетария», которых столетиями рождала румынская земля.— После войны мы не встречались ни разу».
До смерти Чаушеску румын объединял хотя бы один общий фактор — ненависть к Кондукатору. «По крайней мере,— сказал представитель «Группы за социальный диалог», одной из прогрессивных общественных организаций, возникших после декабря 1989 года,— мы были объединены нашей общей ненавистью к супругам Чаушеску». «Когда мы от них избавились, то вдруг оказалось, что мы не знаем, как себя вести, и теперь страстно ненавидим друг друга,— сказала Ана Бландиана, известнейшая румынская поэтесса и одна из немногих подлинных диссидентов.— В свете событий, произошедших после 25 декабря 1989 года, и последующих действий новых властей я начинаю задумываться, а имели ли мы право так строго судить Чаушеску?»
Исчезновение тиранической четы, конечно же, привело к большим изменениям: появилось несметное количество газет всех оттенков, вплоть до националистических и неофашистских (например, «Ромыния маре», чьи издатели Эуджен Барбу и Корнелиу Вадим Тудор были крупнейшими одописцами чаушескинской эпохи). Казалось, будто все демоны, издавна преследовавшие Румынию и застывшие в оцепенении под ледяным дыханием коммунизма, разом проснулись снова.
«После Чаушеску любое новое лицо казалось поначалу ангельским»,— рассказывала Габриела Адамештяну, член «Группы за социальный диалог». Однако инерционная сила системы, созданной Кондукатором, и способ, которым от него избавились, не позволили Румынии вступить на путь изменений, характерный для Польши и Чехословакии. Для того, чтобы лучше объяснить западному миру суть послереволюционных процессов в Румынии, один румынский эмигрант (ныне гражданин Франции) привел следующий пример: «Представьте себе, что бы происходило во Франции, если бы в ней на 40 лет воцарился нацистский режим, не было бы де Голля, а послереволюционное правительство сформировалось бы из последователей Пьера Лаваля» 1.
Дело в том, что в постчаушескинской Румынии полиция, суды и государственные структуры остались по существу нетронутыми. Грустный парадокс состоит в том, что в массовом сознании поселилась иллюзия, будто ненавистной Секуритате больше не существует. Новоиспеченная служба румынской разведки (SIR), конечно, произвела чистку аппарата, избавившись от крайних элементов, безоговорочно скомпрометировавших себя служением Чаушеску, однако костяк организации, ее состава и служб остался целым и невредимым.
Для новых правителей бывшая Секуритате таила в себе одновременно и угрозу и соблазн. Почти все постчаушескинские политики боялись этих людей, боялись имеющихся у них сведений и еще больше боялись тех архивов, которые оставались в их руках, ибо разоблачение, по словам бывшего сотрудника Секуритате Ливиу Турку, «обернулось бы для них катастрофой». В практику Секуритате входило планомерное развращение министров, высшего чиновничества, полиции и судебных работников всевозможными подачками и значительными привилегиями; «в конце концов это приняло такие масштабы, что бюрократы вообще не желали выполнять свою работу без подобного рода вознаграждения». Немногие могут похвастаться отсутствием пятен на их совести или невмешательством Секуритате в их жизнь — в виде помощи при разводе, получении заграничного паспорта, зарубежной поездки, а то и просто шантажа. «Если говорить о нравственном возрождении,— сказал Турку,— то я уверен, что для его достижения должно смениться по меньшей мере два поколения, и, возможно, именно этот факт составляет величайшую трагедию Румынии».
Но для новых властей предержащих бывшая Секуритате с ее штатом сотрудников, оказавшихся в безвыходном положении, таила в себе также и большие возможности. Методы расправы с диссидентами (продемонстрированные уже в январе, но особенно наглядно — 14—15 июня 1990 года, когда «шахтеры» разгоняли студенческие антиправительственные демонстрации на улицах Бухареста) служили неопровержимым доказательством не только того, что Секуритате жива, но что в своем новом обличье она стала верным слугой нового режима. Конечно, ее манеры (по сравнению с тотальным контролем и психологическим террором недавнего прошлого) значительно смягчились, и все же уникальная тактика Секуритате — сочетание слухов и угроз — осталась неизменной. Вскоре после того, как Фронт Национального Спасения нарушил свое прежнее обещание не превращаться в политическую партию, диссидентам стали поступать анонимные письма и телефонные звонки — это был излюбленный способ запугивания, с успехом применявшийся тайной полицией в эпоху Чаушеску. Письма оппозиционеров вскрывались, их иностранная корреспонденция изымалась, их телефоны прослушивались или вообще отключались на несколько дней. Как выразился один диссидент, разными способами «они [т. е. Секуритате] твердо решили оправдать свое существование». Почти наверняка можно утверждать, что именно оперативные службы экс-Секуритате активно внедряют в сознание масс мысль о том, что в постчаушескинской Румынии «тот, кто не с ФНС, тот наш враг».
Другим источником разочарования для румын стало невыполнение новым правительством своего «революционного» обещания создать новое, независимое ТВ. Постчаушескинское ТВ было на удивление бесцветным: какие бы ни происходили важные международные события, первые 15—20 минут программы новостей неизменно отводились деятельности президента Илиеску, его правительства и парламента. Создавалось впечатление, будто смотришь чешскую или польскую программу старого «розлива» —до эпохи Дубчека или Солидарности. Диссидентов допускали до эфира чрезвычайно редко, и даже эти передачи мало походили на прямой обмен мнениями. Когда по ТВ прошла трансляция собрания оппозиции в Брашове (сентябрь 1990 года) и состоялось интервью с бывшим коммунистом, а ныне диссидентом Бруканом, эти передачи (именно в силу их необычности) вызвали огромный резонанс.
Бывший дипломат Мирча Кодряну как-то заметил, что будь Елена Чаушеску жива, ее бы судили «за геноцид, но не людей, а культуры и образования». Тенденциозное освещение новостей по ТВ и крайняя пристрастность и нетерпимость, свойственные всем без исключения румынским газетам, отражают степень испорченности людских сердец и умов. Западные доброжелатели проявили большую наивность, полагая, что постчаушескинский режим полностью порвет с прошлым. Сам способ, которым пользуются новые лидеры для отстаивания своей позиции, весьма напоминает тактику бывшей коммунистической партии, ухитрявшейся протаскивать решения, минуя нежелательные дискуссии.
В правительствующем «клубе» ФНС существовали свои секреты, свои особые правила. Как успел заметить уже на второй день восстания генерал Костял, двери туда закрылись очень быстро.
Многие из румынских диссидентов довольно скоро распростились со всякими иллюзиями. Ана Бландиана была вторым по счету (и столь же краткосрочным, как и первый) вице-президентом «правительства» ФНС, переименованного вскоре в Совет. После первого заседания Совета, вспоминала она, в него входили несколько известных диссидентов, студентов и других людей, сражавшихся на улицах во время революции. Через несколько дней Бландиана подала в отставку с поста вице-президента. На втором заседании Совета, отметила она, вместо 40 человек присутствовали 140, причем студентов среди них уже не оказалось — «их оттуда выпихнули». Новые члены были из министерств и из провинции, причем, по замечанию Аны, «кроме делегатов из Арада, Брашова, Сибиу и Тимишоары, где активно действовала оппозиция, подавляющую часть новых членов составляли бывшие коммунистические активисты, которые одерживали верх в силу своей многочисленности». Они послушно проглатывали любое решение нового ФНС без малейшей попытки критики.
Недавно около Питешти я стоял в длинной очереди на заправку; приходилось ждать — перебои с электричеством. Один из водителей воскликнул: «При Чаушеску у нас было электричество, но не было бензина, а сейчас нет ни того, ни другого». Никто не засмеялся; люди, столпившиеся возле бензоколонки, смущенно отвернулись. Даже спустя год после смерти Чаушеску им было трудно шутить над прошлым, ибо оно сотнями нитей вплеталось в настоящее, прошедшая и нынешняя эпохи перекликались слишком часто. Ответственность за это, несомненно, ложится на новые власти.
Еще более ужасным откровением оказалось для многих румын осознание, что эпоха Чаушеску продолжает жить в них самих. Когда я попытался взять интервью у одного бывшего министра (и к тому же прекрасного врача), получившего образование в Великобритании и, по слухам, явного англомана, то, к своему удивлению, в приемном покое больницы я увидел испуганного и в то же время раздраженного субъекта, который, вместо того, чтобы просто ответить на мои вопросы о Чаушеску, был всецело поглощен выяснением проблемы, как мне удалось его разыскать. Он решительно намеревался доложить об этом возмутительном вторжении в частную жизнь соответствующим органам. Он говорил таким резким, прямо-таки инквизиторским тоном, что я не удержался от несколько колкого замечания, вроде того, что в чаушескинскую эпоху я вряд ли мог ожидать иного приема, но меня поражает, как мало повлияли на него изменения, происшедшие после декабря 1989 года. «Мне кажется,— сказал я,— что Чаушеску по-прежнему живет — по крайней мере, в сердцах и умах тех, кто с ним соприкасался». Явно потрясенный, врач на какое-то время замолчал, и уже совсем иным тоном, со слезами на глазах произнес: «Я не знаю, что на меня нашло. Я не знаю, зачем я начал задавать вам эти вопросы. Они бессмысленны. Наверно, действительно во мне сидит нечто от Чаушеску, и мне никогда не избавиться от этого».
Я вспоминаю кладбище в Скорничешти и разоренную могилу отца Чаушеску, Николае-Андруцэ (единственная могила, где, по настоянию сына, отсутствовал крест); кажется, будто осквернители стремились вырвать с корнем весь род Чаушеску. Я думаю о гладких безымянных могилах самих супругов Чаушеску, похороненных после своего бесславного бегства и страшной смерти на бухарестском кладбище.
При жизни они искренне верили, что навсегда войдут в историю как выдающиеся устроители нового общественного порядка.
В некотором смысле их честолюбивые замыслы осуществились. Их дело продолжает жить в непрекращающейся взаимной ненависти и нетерпимости румын, в расколах и конфликтах страны, во всеобщей подозрительности раздавленных стыдом и виной людей. Как долго, спрашиваю я себя, придется нести это наследство?
Лишь одна группа населения оказалась чистой и незапятнанной: всех, кому довелось общаться с новым поколением румынских студентов, поражает широта их мировоззрения (и это вопреки многолетнему школьному доктринерству), их смелость и их свободная речь, лишенная шелухи и отголосков марксистско-ленинских штампов. Наверно, все-таки величайшее свое преступление супруги Чаушеску совершили после смерти: они так изуродовали умы и сердца новых правителей Румынии, что те снова вступили на путь столкновения со студентами и интеллектуалами без малейшей надежды на взаимопонимание и единение.
Итак, казнь Николае и Елены, призванная опустить занавес над эпохой, память о которой жаждали исторгнуть из сердца почти все румыны, на поверку оказалась лишь первым актом новой кровавой мелодрамы. Супругам Чаушеску все же удалось, хотя и неожиданным способом, добиться своей цели, они действительно оставили след в истории своей страны. Невидимые, но вездесущие, они по-прежнему отбрасывают свою тень на новую Румынию.
Пьер Лаваль — глава коллаборационистского правительства во Франции во время второй мировой войны; казнен после освобождения Франции {Прим. персе.).
Примечания:
1
Его карьеристские устремления закончились для него многомесячным домашним арестом. (Прим. автора.)
2
«Первым Кондукатором» называли маршала Антонеску, правившего Румынией в 1940— 1944 гт. (Прим. перев.)
3
Фанариоты — представители греческой аристократии в Османской империи, занимавшие высокие посты в турецких наместничествах. (Прим. перев.)
4
«Чего же вы хотите? Ведь мы живем у врат Востока!» (франц.)
5
Вилла Фоишор может служить наглядным образцом ненасытной страсти Чаушеску к личной собственности: будучи при короле Фердинанде скромным охотничьим домиком и затем переданная в 1947 году королем Михаем государству, при Георгиу-Деже она стала домом творчества художников и писателей. Однако в 1966 году Чаушеску изгнал из виллы творческую элиту и забрал ее себе, затратив огромные средства на перестройку (добавив бассейн, сауну, спортивный зал и дюжину спален, в которых никто никогда не ночевал). Супруги посещали виллу только раз в году. (Прим. автора)
6
Интервью, данное автору в тюрьме. (Прим. автора).
7
Книга была опубликована в 1983 г. некоей организацией международного движения за мир, без имени автора и адреса редакции, с предисловием Жака де Лоне. Книги такого рода печатались во многих странах; они пестрели фотографиями Чаушеску в обществе мировых лидеров и, судя по стилистике, были явными переводами с румынского оригинала. (Прим. автора. )
8
«Железная гвардия» — фашистская организация, существовавшая в Румынии в 1931— 1944 гг. (Прим. перев.)
Источник: “Иностранная литература”, №№ 4,5-6, 1992.