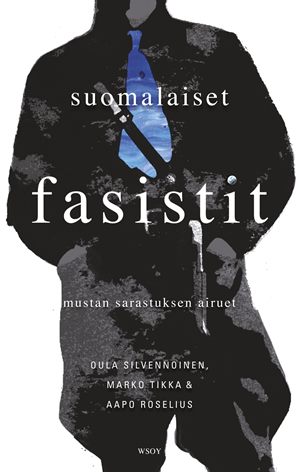В РАБОТЕ
Перевод на русский: нейросеть + глубокое редактирование – очень интересной книги финских авторов о генезисе и истории финского фашизма.
Oula Silvennoinen Marko Tikka Aapo Roselius
Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airut
2016
К читателю
Фашизм совершает своё самое мощное возрращение в мейнстрим западной политики со времён окончания Второй мировой войны. Поэтому в суть этого явления стоит вникнуть и в Финляндии. Однако без знания идейной и эмпирической основы первой волны фашизма, поднявшейся в межвоенный период, понимание сегодняшнего фашизма становится непосильной задачей. Поэтому эта книга и была написана.
Финского фашизма как самостоятельного, независимого от остальной Европы явления никогда не существовало. Мы не станем ввязываться в споры об особенностях форм проявления фашизма; существенно понять, что все фашистские движения межвоенной эпохи произрастали из одной и той же, общеевропейской идейной и эмпирической основы.
Понятийная путаница была характерна как для финских, так и для международных исследований фашизма; принятые нами в этой книге практики являются попыткой прояснить ситуацию. Мы не используем термины «ультраправые» или «радикально правые» как синонимы фашизма; суть фашизма заключалась не в традиционной правой идеологии, а в антилиберализме и национализме. Термины «радикализм» и «радикализация» мы используем в их узком значении, исключительно для описания отношения отдельных лиц или организаций к насилию.
Эта книга не является ни справочником по финскому фашизму, ни изданием из серии «кто есть кто». История фашизма межвоенной эпохи в Финляндии ни в коей мере не ограничивалась лицами и организациями, представленными в этой книге, и её история не закончилась там, где завершается повествовательная линия этой книги. Фашизм всё ещё с нами, отчасти с новыми символами и лозунгами.
Мы благодарим отечественные и зарубежные государственные архивы, а также частных лиц, в распоряжении которых находились материалы, сделавшие возможным создание этого труда, в особенности Национальный архив и Национальную библиотеку. В течение прошедших почти четырёх лет многие давали нам наводки на книги, газеты и архивные материалы, читали и комментировали отрывки текста, рассказывали об интересных фотографиях и выводили нас на след интересных людей. Мы особенно благодарим Пертти Хаапала, Вилле Кивимяки, Алекси Майнио, Сейю-Лену Невала-Нурми и Ярмо Пелтола.
Фотографии — это окно в исчезнувший мир. В иллюстрировании книги использованы коллекции Музейного ведомства и Архива народного творчества Университета Тампере, а также частные коллекции. Мы благодарим Туомаса Эрвамаа за доброжелательную помощь в получении доступа к архиву Эркки Эрвамаа для исследовательских целей. Мы также хотим отдельно упомянуть фотоархив Музейного центра «Ваприикки» и исследователя Антти Лиуттунена, чей профессионализм был непревзойдённым при работе над иллюстрациями для этой книги.
Исследование — это работа, а работу нельзя делать без денег. Мы особенно благодарим Литературный фонд акционерного общества «Вернер Сёдерстрём», а также Ассоциацию авторов научной литературы Финляндии, чья финансовая поддержка сделала возможным создание этого труда.
Один этап нашего исследовательского путешествия в чёрное отечество завершён, начинается новый. Передавая рукопись издателю, мы ещё более убеждены в том, что эту книгу необходимо было написать. Спасибо вам всем, друзья!
Хельсинки – Тампере – Таллин Оула Сильвеннойнен, Марко Тикка, Аапо Роселиус
I
На скором поезде Киев-Херингсдорф, или разбор гнезда финского фашизма
Города мерцают. Тьма гонит тучи.
Азия прорывает свои плотины со степей.
Винтовки рисуют пламя вдоль границы.
Водоворот движется. Храмы рушатся.
Европа в ночи! Третье тысячелетие мчится
с развевающимися флагами и ревущими фанфарами.
Распахивая землю, сверкают плуги.
Певцы идут, сея бурю.
Пааво Хююнюнен
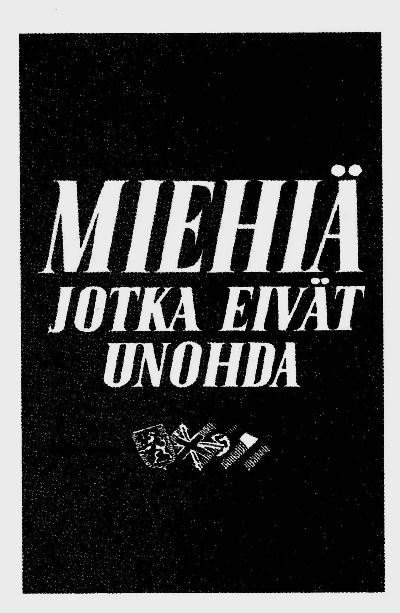
На запасном пути, на Киевском вокзале в Украине, стоит поезд в сумеречный сентябрьский вечер. Снаружи, на перроне, бурлит человеческий хаос. Конфликт, начавшийся как европейская война, длится уже более трех лет и превратился в мировую войну. Конца не видно. Для Российской империи бремя войны, однако, уже оказалось непосильным. Государство в революции, и его армии распадаются. Дисциплина рухнула. Солдаты кто как может выбираются с фронтов. Они стреляют в своих офицеров, с которыми еще недавно делили тяготы окопов. На вокзале колышется мешанина из шинелей, штыков-«крысиных хвостов», кожаных ремней, ранцев, тканевых фуражек, запаха махорки и красных нарукавных повязок. Воздух полон шума, криков и угрозы насилия. Оно может в любой момент вылиться в убийства.
В одном из вагонов поезда еще сохранился островок старого порядка. Группа офицеров подкупила железнодорожного служащего и сумела получить одно купе для себя. Осталось лишь нервное ожидание. Если офицеров обнаружат, взбунтовавшиеся солдаты вытащат их на железнодорожную насыпь и расстреляют на месте, если не разорвут их на куски зубами и когтями. Наконец поезд трогается и катится по железнодорожному мосту через Днепр в позднелетний вечер. Путь лежит на север, где еще безопасно. Сколько времени пройдет, прежде чем волны анархии докатятся и туда? Огни вокзала и города остаются позади. Поезд едет, но вокруг сгущается мрак. Там, во тьме, шевелятся неуправляемые и жестокие силы зарождающегося 20-го века. 1
Так начинается роман финского офицера-сапёра Йохана Кристиана Сергея Фабрициуса «Люди, которые не забывают», опубликованный в 1936 году. Произведение представляет собой вымышленный рассказ о путешествии пятерых офицеров через революционную Россию в 1917 году, а также о том, к чему привела эта совместная поездка двадцать лет спустя. Хотя Фабрициус не говорил об этом своим читателям, роман во многом основывался на его собственном опыте. Подобно героям своего романа, Фабрициус служил офицером в русской армии во время мировой войны. Осенью 1917 года он также отправился в опасное путешествие на поезде через охваченную революцией страну. Как и у его литературного прообраза, капитана Норда, путь Йохана Фабрициуса пролегал с Галицийского фронта обратно в Финляндию. В страну, чья собственная мировая война только начиналась. 2
Забытый роман Фабрициуса важен потому, что он сам стал одним из самых последовательных и деятельных организаторов финского фашизма межвоенного периода. В то же время, благодаря своим сочинениям, он был одним из его самых откровенных интеллектуалов и открытых идеологов. Его литературное творчество, помимо профессиональной литературы по саперному делу и фортификации, включало мемуары и художественные произведения. Статус программного манифеста получил именно роман «Люди, которые не забывают». В нем Фабрициус в художественной форме изложил предпосылки, основы и план действий своего политического мышления. «Люди, которые не забывают» — это ключевое произведение для понимания мировоззрения финского фашизма.
В этой книге мы проследим путь Йохана Фабрициуса и его единомышленников, которые стали финскими фашистами в период между мировыми войнами. Как и для их европейских собратьев по идеологии, финский фашизм был попыткой реализовать общественное видение, которое должно было отразить угрожавший всему обществу — нации — упадок. Это видение включало в себя националистическое, «оздоровительное» движение, которое должно было вернуть золотой век, предположительно существовавший когда-то в прошлом. Оно создало бы новое, гармоничное общество, сокрушив сеющие рознь ереси просвещения и либерализма.
Идеологические черты фашизма обострились в течение долгого XIX века, периода, который простирался от начала Французской революции в 1789 году до начала Первой мировой войны в 1914 году. Мировая война, завершившая долгий XIX век, стала для зарождения фашизма необходимым, решающим и потрясающим общеевропейским опытом поколений. Она ниспровергла практически все устои и уверенности ушедшей эпохи. Послевоенный мир унаследовал ударный отряд будущих фашистских движений, состоявший из молодых людей, повзрослевших в окопах.
Йохан Фабрициус был одним из членов этого европейского военного поколения. Его имя большинству неизвестно. Фабрициус не вошел в число самых видных деятелей фашистского движения своего времени. Он не чувствовал себя комфортно в политике и на переднем крае публичности, и его деятельность ограничивалась небольшими шведско-финскими организациями радикального национализма. Однако летом 1944 года Фабрициус принял решение, которое показало глубину его идеологической приверженности. Когда выход Финляндии из войны против Советского Союза стал казаться вероятным, он присоединился к Движению за свободную Финляндию, которое было подпольным движением сопротивления в Финляндии под руководством СС. Он тайно перебрался в Германию, затем тайно вернулся в Финляндию и в конце концов был пойман, когда власти вышли на его след. Йохан Фабрициус умер в следственном изоляторе, так и не успев выступить с публичной защитительной речью со скамьи подсудимых вместе с другими, обвиненными, как и он, в государственной измене.
«Честный крестьянский юмор»? Фашизм и культура преуменьшения
Считается, что история финского фашизма хорошо известна. Его наиболее яркие проявления — финские движения, подражавшие итальянскому фашизму и немецкому национал-социализму, — рассматривались во многих исследованиях и справочниках. Поэтому странно, что общая картина до сих пор остается разрозненной в исследовательской литературе, созданной за последние сорок лет и отличающейся по качеству. Симптоматично и то, что самая значительная работа о национал-социалистических движениях в Финляндии, диссертация Хенрика Экберга «Führerns trogna följeslagare» («Верные последователи фюрера»), опубликована только на шведском языке. 3
Исследование осталось фрагментарным именно потому, что наследие финского фашизма до сих пор вызывает сильные и противоречивые чувства. Преступления фашистских режимов — террор, война, геноцид — нанесли глубокую травму европейским политическим правым, поскольку считалось, что фашистские движения зародились именно в их среде. Ультраправые и правый радикализм утвердились в качестве синонимов и эвфемизмов для фашизма. Марксистская историография также охотно объясняла фашизм как крайнюю форму капитализма и подлинную сущность правых.
В действительности отношения фашизма с политическими правыми были более сложными и менее тесными. Сами фашисты предпочитали рассматривать свою идеологию и движения как отход от традиционной оси «правые-левые», как своего рода революционный «третий путь». Фашизм обещал спасение как от крайностей капитализма, так и от призрака коммунизма. Среди традиционных, консервативных правых фашисты, безусловно, находили союзников, поскольку было много общих точек соприкосновения. Общую ценностную основу определяли ценностный консерватизм, авторитаризм, национализм и страх перед коммунизмом.
В 1920-х годах в Финляндии угроза советского коммунизма была превращена в религиозный догмат. Не стоит преуменьшать природу Советского Союза как жестокой и агрессивной диктатуры, но его реальное влияние на финское общество в межвоенный период было слабее, чем принято считать. Большинство современников это понимали, хотя к коммунизму испытывали подозрение, объединявшее почти все общество и политический спектр, от правых до социал-демократов. Поэтому для надзора за отечественными коммунистами и теми, кого таковыми считали, были задействованы в лучшем случае полиция безопасности, внутренняя военная разведка, шюцкоры, а также местные полицейские власти. Сквозь такую сеть крупная рыба уже не проплывала. Возможности для деятельности левых также эффективно сужали судебные процессы о государственной измене 1920-х годов, не говоря уже о внепарламентской чистке на рубеже 1920-х и 1930-х годов. Было маленьким чудом, что коммунизм в Финляндии вообще выжил, ведь столько раз и столькими способами белая Финляндия стреляла по этой мухе из пушки. 4
Тем не менее, опасность коммунизма постоянно поддерживалась на виду, и считалось, что она угрожает всему общественному строю. Диспропорция между реальным влиянием коммунизма и силами, мобилизованными против него, показывает, что речь шла не только о внешнеполитической угрозе. Речь шла также о внутриполитическом контроле. Особенно для самой радикальной, фашистской части националистов коммунизм был хорошим врагом. Поддерживая эту тему на виду, можно было продвигать собственные политические цели и привлекать на свою сторону даже более умеренную буржуазию. Если бы коммунистов не существовало в реальности, их следовало бы выдумать. 5
Однако цели фашистов простирались гораздо дальше, чем уничтожение коммунизма. Они хотели уничтожить всякую партийную политику: сначала коммунистов, затем социал-демократов, потом «вялые» умеренные буржуазные партии и «классовые партии» вроде Аграрного союза. В этом мышлении финские радикалы не отличались от своих европейских единомышленников. Уничтожение демократии, парламентаризма и партий понималось как необходимое первое условие для национального единства. 6
Все это до сих пор влияет на исторический образ фашизма. Подобно событиям гражданской войны 1918 года, преступления фашизма долгое время были внутриполитическим оружием в послевоенной Финляндии, с помощью которого левые одерживали моральные победы над правыми. Как в свое время красным террором гражданской войны, так и обвинением в фашизме было легко наносить удары. В обоих случаях в истории находились нерассмотренные несправедливости, упоминание которых было эффективным. И в послевоенной Финляндии всегда нужно было учитывать и Советский Союз, который в своей пропаганде называл фашистами практически всех своих политических оппонентов. Кто же тогда хотел получить клеймо фашиста?
Последующий образ фашизма в Финляндии еще больше формировался начавшейся после распада Советского Союза идеализацией военных лет. Зимняя война и Война-продолжение стали для финнов своей собственной Великой Отечественной войной, которая с десятилетиями превратилась из поражения сначала в оборонительную победу, а затем в кульминацию борьбы за независимость. Реальность довоенного времени было трудно вписать в эту картину. В атмосфере патриотического подъема забылось, каким противоречивым обществом была Финляндия в межвоенный период. В результате, например, начавшийся в 1990-х годах новый поворот в исследовании гражданской войны 1918 года вызвал вначале эмоциональную дискуссию. Новые интерпретации гражданской войны воспринимались как очернение собственного гнезда и насмешка над героическими поступками даже более поздних ветеранов. Такое же сопротивление встретила и новая военная история, посвященная Второй мировой войне: как будто историческое рассмотрение сексуального климата военных лет, отношения финнов к Холокосту или проблем психического здоровья солдат очерняет «хорошие вещи» в нашем прошлом.
Несмотря на усилия отдельных исследователей, фашизм практически выведен за рамки финской исторической картины. Из-за этого оценки общественного значения фашизма и фашистов в Финляндии варьировались от незначительного до нулевого. Защитники до сих пор цепляются за то, что только организации, открыто подражавшие фашистским идеям или национал-социализму, и их сторонники были «фашистами» или «нацистами», и никого другого под это определение подвести нельзя. Открытых фашистов же было так мало, что у них, разумеется, не могло быть общественного значения. Фашизм утонул в болоте кажущихся бесконечными попыток дать ему определение и споров о них. В Финляндии царила, по определению писателя Матти Курьенсаари, «честная антикоммунистическая демократия», и на этом все. 7
Финский фашизм в исследованиях практически не сравнивался с его самым очевидным аналогом: европейским фашизмом. Возможно, это связано с тем, что финские радикалы в конечном итоге не натворили много зла: их попытки государственного переворота провалились, мечты о финских концлагерях не осуществились, антисемитизм остался на страницах партийных газет, расстрельные списки — в ящиках столов, диктаторы не были приведены к власти. У нас не было еврейских погромов и концлагерей, поэтому не было и «настоящих» нацистов или фашистов. Так что и сравнивать было не с чем.
В этой книге оспаривается большая часть, если не все, господствующие представления о финском фашизме. Одним из самых центральных является убеждение, что в Финляндии настоящего фашизма как бы и не было, или что он остался на обочине общественной жизни, маргинальным, несколько комичным придатком, движением без сторонников, влияния и наследия. Мы утверждаем, что открытый фашизм в Финляндии составлял лишь малую часть реального влияния фашизма. Самые значительные и массовые фашистские движения, Движение Лапуа, Патриотическое народное движение (IKL) и Союз фронтовиков Освободительной войны (VRL), на протяжении всего своего существования решительно открещивались от фашизма и национал-социализма, в то же время на практике проводя фашистскую политику.
Финляндия — европейская страна. Поэтому не удивительно, что по-европейски и в Финляндии в межвоенный период возникли фашистские, национал-социалистические и другие радикальные националистические движения. Названия варьировались уже потому, что собственное понимание фашистами природы своих идей было разным. Те националистические радикалы, чьи корни уходили в традиционные правые политические круги, иногда характеризовали себя как «революционные правые». Слово «фашизм», производное от итальянского, в свою очередь, до начала 1930-х годов было популярным самоназванием для движений, стремившихся к национальной революции. Недолго просуществовавший журнал «Fascisti» пытался утвердить этот термин в политической жизни словами своего главного редактора Густава Вреде:
Наша газета будет продвигать финский фашизм. Что это такое, в деталях зависит от наших национальных условий. Но то, что он требуется, очевидно. 8
Однако в течение 1930-х годов слово «фашизм» было забыто и самими радикалами. На его место для описания своей политической идентичности, вдохновленное успехом Адольфа Гитлера и немецкого национал-социализма, пришло слово «национал-социализм». В Финляндии также возник ряд открыто национал-социалистических движений, таких как Трудовая организация финских национал-социалистов, Финская национал-социалистическая народная партия, Организация национал-социалистов или Финский национал-социалистический союз, позже сменивший название на Финско-социалистическую партию. Таким образом, кажется, что точное определение финского фашизма — непростая задача. У самих фашистов не было четкого представления о содержании своего мировоззрения. Однако все эти движения разделяли определенные ключевые, повторяющиеся и общеевропейские идеологические факторы, на основании которых их можно определить как формы финского фашизма.
Насилие движения Лапуа позже оправдывали тем, что оно якобы предотвратило деятельность коммунистов и создание «пятой колонны» в Финляндии. С этой точки зрения, насильственные действия движения были полезны и, в любом случае, по своей сути безобидным, бодрым «крестьянским юмором». Характеристика по меньшей мере странная, поскольку речь идет о похищениях, избиениях и политических убийствах. 9
Подобное преуменьшение характерно и для послевоенных представлений о природе националистического радикализма. В общественной дискуссии часто встречается мнение, что деятельность радикалов 1920-х и 1930-х годов была лишь восторженно-патриотической, возможно, немного грубой, но доброкачественной и понятной. Те, кто выдвигает такие утверждения, либо лгут, либо не знакомы с идеологией финских фашистов. Патриотизм националистических радикалов был, надо сказать, совершенно особого рода, и его содержание ничем не отличалось от их единомышленников в других странах Европы, называемых фашистами и национал-социалистами.
В этой книге деятели финского фашизма представлены через их собственные сочинения. Фашизм как явление можно понять, только познакомившись с мировоззрением таких фашистов, как Йохан Фабрициус.
Кто были фашисты, к чему они стремились и почему? Фашизм как по-прежнему влиятельное идейное наследие и политический проект никуда не исчез. Понимание — необходимый ключ к правильной оценке этого явления. Это особенно важно сейчас, когда европейский фашизм по всему континенту совершает самое мощное возвращение в политическую жизнь со времен окончания Второй мировой войны.
Восходит темное солнце — по следам поколения радикализма
В последние дни июля 1914 года офицер запаса русской армии, инженер Йохан Фабрициус сидел в Выборге на террасе павильона парусного общества Wiborgs Läns Segelförening. В его компании был другой молодой человек, главный редактор газеты «Viborgs Nyheter» Уве Шёстрём. Атмосфера летних дней стала гнетущей из-за постоянно обостряющейся политической ситуации в Европе и сгущающихся догадок и слухов. Вспоминая позже, те последние летние моменты казались полными угрозы и предзнаменований грядущего.
Фабрициус позже писал, что «эпоха цивилизации» подходила к концу и начиналась какая-то другая эпоха. Для него это означало скорое начало мобилизации и призыв на службу в качестве резервиста. Для Шёстрёма начавшийся переворот, в свою очередь, привел его в егеря в Германию в 1915 году. Пути товарищей больше не пересеклись. Вернувшись в Финляндию вместе с другими егерями, Шёстрём умер от болезни в Куопио в марте 1918 года, в разгар гражданской войны в Финляндии. 10
В жизненном пути Йохана Фабрициуса к началу мировой войны уже прослеживались два ключевых фоновых фактора более позднего европейского фашизма: национализм и радикализм. Оба уже долгое время определяли его предшествующую жизнь.
Йохан Фабрициус родился в 1890 году в Москве в финской семье, где домашними языками были шведский и русский. Его отец, Йоханнес Кристиан Фабрициус, делал карьеру саперного офицера в русской армии, которая в итоге привела его в генеральский чин. Мать, Александра Фабрициус, принадлежала к русскому дворянскому роду Свечиных. Семья жила жизнью высшего класса с городскими домами, летними виллами и заграничными поездками. Отец также прочил сыну карьеру саперного офицера и в одиннадцать лет отправил Йохана в Хаминский кадетский корпус. 11
Несмотря на русское происхождение матери, интеллектуальную атмосферу в доме детства пронизывал финский национализм. Юный Йохан с детских лет привык следить за политикой России в отношении Финляндии с национальной точки зрения. В своих мемуарах он жаловался на растущее со временем чувство отчуждения по отношению к лояльным империи родственникам матери и русским школьным товарищам. Первый ощутимый опыт несовместимости многонациональной империи и финского национализма пришел, когда Хаминский кадетский корпус был закрыт в 1903 году в рамках политики унификации, проводимой царским правительством в Финляндии. Юного Фабрициуса перевели в Николаевское инженерное училище в Петербурге. Его радикализм, как и у многих других, получил первый импульс от событий «годов угнетения». Убийство генерал-губернатора Великого княжества Финляндского Николая Бобрикова вызвало в семье Фабрициусов уже безудержную радость: «Теперь он получил по заслугам! Наконец-то! Ни мгновением раньше!» 12
Патриотический энтузиазм омрачила лишь смерть младшего брата в 1905 году от длительной, так и не диагностированной болезни. Поражение России в войне на Дальнем Востоке в том же году дало юному Йохану первый опыт революции. Во время всеобщей забастовки, начавшейся в конце сентября 1905 года, в Петербурге прервалось электроснабжение. Уличные фонари погасли, трамваи остановились, в магазинах закончились товары, и они закрыли свои двери. Ученикам Николаевского инженерного училища пришлось сидеть несколько дней запертыми в здании училища. Выходить на улицу было слишком опасно. Юные кадеты в страхе съежились при свете свечей, пока на улице с грохотом наступала современность. Единственными новостями из внешнего мира были леденящие кровь слухи, передаваемые прислугой: обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев попал в руки разъяренной толпы и был разорван на куски, царь убит. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось, но с тех пор революция представлялась Фабрициусу вышедшим из-под контроля, звериным хаосом. 13
В 1910 году Йохан Фабрициус поступил на службу в русскую армию саперным офицером, подпоручиком в 20-й саперный батальон, дислоцированный в Двинске. Финский национализм на этом этапе уже начал влиять и на карьеру Фабрициуса. Он уволился со службы всего через пару лет. По его собственному рассказу, он не смог разрешить моральную проблему, вызванную службой в вооруженных силах империи, угнетавшей его родину Финляндию. Поселившись в Выборге, Фабрициус после этого работал в русской акционерной компании «Россия» и в 1913 году получил диплом инженера в Германии. Вернувшись в Великое княжество Финляндское, он с энтузиазмом участвовал в его националистических демонстрациях. 14
Все европейские фашистские движения произрастали из радикализовавшегося национализма. Национализм проявлялся в стремлении к сильной нации и национальному государству, которое должно было быть политически, этнически, лингвистически и религиозно единым. Все фашисты были — и остаются — националистами. Однако не все националисты являются фашистами. Нужно что-то еще.
Под радикализмом мы понимаем готовность к насилию для достижения политических целей. Радикалы либо применяют насилие напрямую, либо готовы одобрить его применение другими. Радикалами являются и те, кто подстрекает к насилию или оправдывает, преуменьшает и объясняет насилие других. В случае Фабрициуса радикализм начался уже в родительском доме; отец и сын вместе были готовы одобрить политическое убийство во имя высшего блага. Опыт революции ускорил процесс радикализации, привнеся в него чувства внешней угрозы и страха. Однако в жизни Фабрициуса радикализирующим фактором, превосходящим все остальные, оказалась начавшаяся мировая война.
Йохан Фабрициус служил в мировую войну русским офицером на Галицийском и Румынском фронтах, дослужился до капитана и командира батальона. Европейская великая война, русская революция и гражданская война в Финляндии стали самым значимым опытом в его жизни. Они сформировали из него красноречивого представителя финского военного поколения, который в своих произведениях последовательно выводил черты своего мышления из своего опыта фронтовика мировой войны и белого бойца гражданской войны. Мировая война и непосредственно связанная с ней гражданская война в Финляндии стали линзой, через которую Фабрициус смотрел на весь свой опыт. Фронт и его воины возвысились в мировоззрении Фабрициуса до символов чувства долга, любви к родине и мужественности. Противоположностью презирающей смерть добродетели фронта стала гниль тыла. В мыслях Фабрициуса в тылу концентрировалось все, что было низким, трусливым и неправильным. Тыл был целым миром, населенным гражданскими и солдатами, далекими от фронтовых задач, где толпы спекулянтов наживались на войне и наслаждались сладкой жизнью, пока цвет нации страдал и умирал на ничейной земле. Фабрициус не был одинок в своих взглядах. Эта точка зрения была общей для таких, как он, фронтовиков во всех воевавших странах и стала решающим фактором для зарождения европейского фашизма. Не было случайностью, что его самые известные и влиятельные представители, итальянец Бенито Муссолини и немец Адольф Гитлер, были, как и Фабрициус, ветеранами-фронтовиками мировой войны. 15
В конце июля 1917 года немецкая и австрийская армии прорвали русские позиции у Тарнополя в Галиции. Фабрициус сам был свидетелем начала окончательного краха русской армии. Фронт распадался. «Мой долг здесь выполнен», — писал Фабрициус жене в последний день августа 1917 года. Пришло время попытаться вернуться на родину, на восстановление статуса которой, а может быть, даже на независимость, теперь появилась новая надежда. В сентябре 1917 года Фабрициус сел на поезд и отправился в сторону Финляндии. Он вряд ли догадывался, что на родине его ждет еще последний, финский акт мировой войны. Путешествие на поезде к самому сердцу финского фашизма началось. 16
Эта книга рассказывает о тех финнах, которые в межвоенный период мечтали о будущей националистической, авторитарной и единой Финляндии. Мы расскажем, кем они были, какую политику они проводили, какие организации они создавали для достижения своих целей, в какие тайные заговоры они были вовлечены, а также что в итоге стало с ними самими и их идеями. У этой самой радикальной группы сторонников белой Финляндии после 1918 года было сильное стремление переопределить задачи гражданина, семьи и общества, перекроить финское общество в соответствии с собственным представлением о хорошем сообществе. Духу времени соответствовала идея, согласно которой центральной была тотальная, выходящая за религиозные и моральные рамки, власть государства над гражданами. Существенной частью фашистского мышления, помимо этого, был страх перед другими, столь же радикальными идеологиями, и их сокрушение, при необходимости, с помощью насилия. Такие образованные, воспитанные, состоятельные, уважаемые и во всех отношениях порядочные обычные европейцы, как Йохан Фабрициус, приспосабливались к экстремистскому мышлению, которое на первый взгляд могло показаться «сохраняющим общество» и защищающим традиционные ценности. Однако результатом стал водоворот, который начался с дискриминации и поочередно поглотил коммунистов, социал-демократов, профсоюзных активистов, евреев, гомосексуалов, свидетелей Иеговы, цыган, душевнобольных и умственно отсталых. Мы ищем в истории таких фашистов, как Фабрициус, ответ на вопрос, почему так произошло. 17
Судя по собственным сочинениям националистических радикалов, в их Финляндии не было бы партий и организаций, представляющих группы интересов. Вместо них «воля народа в соответствии с общим благом» была бы подчинена одной идеологии и одному вождю. Страной руководил бы корпоративный парламент, состоящий из представителей различных профессий, на практике представляющий одну политическую идеологию. Значительная часть населения была бы лишена избирательного права, поскольку муниципальное и государственное избирательное право было бы привязано к платежеспособности по налогам и различным обязанностям. Вместо гражданских и человеческих прав была бы создана Финляндия гражданских обязанностей, связанных с трудом и обороной страны. Деятельность в задачах гражданской обороны и обороны страны — на практике обязательное членство в шюцкорах или «Лотта Свярд» — была бы главной гражданской обязанностью мужчин и женщин. Общественная дискуссия, не говоря уже о политической оппозиции, не допускалась бы. В духовной атмосфере страны царила бы сильная публичная религиозность и подозрительность ко всем внешним культурным, интеллектуальным и политическим влияниям.
Фашистская Финляндия так и не была создана. Несмотря на этот фундаментальный провал, эпоха националистического радикализма и фашизма нуждается и заслуживает более основательного разбора, чем тот, что до сих пор предпринимался в Финляндии. Проводниками в этом путешествии служит группа представителей финского фашизма, их попутчиков и сочувствующих, и в особенности возвращающийся с мировой войны, закаленный и озлобленный фронтовым опытом финский националист Йохан Фабрициус.
Подобно героям своих более поздних романов, он сел в свой поезд в сентябре 1917 года. Путешествие оказалось долгим. Скорый поезд довез Фабрициуса из Киева через несколько промежуточных станций до базы Движения за свободную Финляндию в Херингсдорфе на острове Узедом в Северной Германии, а оттуда на последний запасной путь, в камеру хельсинкской окружной тюрьмы. Последней остановки достигли только в 1946 году.
Общеевропейское давление в котле, двигавшее локомотив Фабрициуса, родилось из грязи и колючей проволоки, из фрустрации, разочарования и чувства предательства, из бесцельной ярости фронтовика, направленной на штабы, «солдатских гуляшей», освобожденных от службы, женщин, пустословящих политиков, революционных дураков и «ультрагуманных» мечтателей. То же давление породило европейский фашизм. Поэтому тому, кто хочет понять мировоззрение фашистов и его финские проявления, стоит сесть в пыхтящий на Киевском вокзале скорый поезд.
Гудок локомотива уже свистит.
II
Идейный угар и огонь: долгий XIX век фашизма
В фашизме межвоенного периода, как в режиме Муссолини, так и во всех других западноевропейских фашистских движениях, не было ни одной центральной идеи, которая не созрела бы постепенно в течение четверти века, предшествовавшей августу 1914 года.
Зеев Штернхель
Фашизм стал известен как заклятый враг коммунизма, но его идейные и интеллектуальные корни лежали в движении, которое развивалось одновременно с либерализмом и восставало против него. Новые представления о мире, человеке и обществе формировались с XVII века вместе с развитием естественных наук. Между естественными науками и свободомыслием существовала прочная связь, в которой они подпитывали друг друга. Развитие естественных наук поощряло мысль о том, что в будущем человек, возможно, сможет разгадать загадку природы и указать универсальный путь к хорошей жизни, справедливости и истине. Этот период зарождения и подъема либерализма принято называть эпохой Просвещения.
Либерализм стал ведущей идеологией восходящей европейской буржуазии XVIII века. Его политическое и философское содержание проистекало из интересов буржуазного сословия в развивающуюся эпоху современного капитализма. Важная для буржуазии экономическая свобода стала ядром либерализма. Она означала демонтаж типичных для старых европейских монархий механизмов регулирования экономики: отмену сословных привилегий, свободу предпринимательства, свободное предпринимательство и конкуренцию, а также ликвидацию монополий, регулирования и таможенных барьеров. 18
Однако невозможно было изменить экономические структуры, не затронув весь общественный порядок. Поэтому экономический либерализм неизбежно означал также рождение политического либерализма. В его основе лежало стремление к регулированию и ограничению власти, поиск защиты от собственных правителей. Власть должна была основываться на законе, а не на произволе правителей или дворянства. Она должна была быть предсказуемой, иначе последствия для экономической жизни были бы губительными. Представления о разделении властей в обществе и правовом государстве вошли в повестку дня либералов. За ними вскоре последовали требования конституции, свободы совести, мысли, выражения и собраний, равенства, гражданских и человеческих прав. 19
В своем общественном и научном мышлении либералы отвергли традиционные авторитеты, такие как античные мыслители и Библия, как бремя истории. Уйти в прошлое должны были также основанные на власти традиции, недоказанные верования, такие как учение о божественном праве королей на власть или о разделении общества на неравные сословия. Восстание против легитимности и осмысленности общественного строя, который считался вечным, сделало многих либералов скептиками и подвергающими сомнению и другие истины, считавшиеся неизменными. Вскоре они стали известны также как религиозные вольнодумцы: деисты, пантеисты, агностики и атеисты. Подъем либерализма достиг кульминации в выступлении революционного либерализма, в свержении с престола королей, правивших Божьей милостью. Славная революция в Англии, Война за независимость США и Французская революция были первыми в мире либеральными революциями. Триумфальное шествие либерализма казалось неудержимым, и оно вызывало у одних восторг, у других — ужас.20
Просвещение и контрпросвещение
Идеи Просвещения и либеральная общественная мысль никогда не завоевывали всех на свою сторону. По мнению их критиков, 34 учения либералов были по большей части опасным витанием в облаках и сомнительными экспериментами на живых людях. По мнению самых красноречивых противников Просвещения, таких как Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр и Иоганн Гердер, Французская революция была не более чем волнением, доведенным до конца силой черни, бунтом против Бога и установленного Богом общественного порядка. 21
Мыслители контрпросвещения выступили против революционного либерализма, его представлений о человеке и обществе. Прежде всего, они отвергали идею равенства. Общество, по их мнению, было объединением неравных между собой людей, где иерархия определяла права и обязанности каждого. Было безумием требовать, чтобы права и обязанности были для всех одинаковы, ведь и способности, и наклонности людей не были одинаковыми. Вера Просвещения в могущество естественных наук была преувеличением, и, по мнению критиков, она делала идеи мыслителей Просвещения чуждым жизни, бездушным, механистическим теоретизированием. Мировоззрение Просвещения оставалось неполным, поскольку оно не признавало ценности духа, веры, инстинкта, мужественности, действия и нападения.22
Мыслители контрпросвещения утверждали, что не существует одного универсального ответа на вопрос, что такое хорошая жизнь или какое общество является хорошим. Народы были различны между собой, как и люди, и каждый устраивал свои общественные условия в соответствии со своими потребностями, традициями и особенностями национального характера. Было дерзостью, не считающейся с благополучием людей, требовать, чтобы общества были полностью переустроены в соответствии с теориями нескольких начитавшихся до глупости книжников, когда многовековая традиция требовала иного. Отвержение авторитета извечных обычаев, античных мыслителей и, прежде всего, священных писаний, данных самим Богом, было шутовством, которое рано или поздно будет наказано. Человек никогда не сможет подняться своими силами, опираясь на собственный разум, собственную природу, собственное чувство правильного и неправильного; даже мечтать о таком означало вступление на путь упадка и гибели. Сутью контрпросвещения был «бунт инстинктов» против порожденного Просвещением господства разума. Без света и руководства души, сердца, духа и веры разум был слепым и бесполезным инструментом.
Мир идей контрпросвещения стал интеллектуальной основой позднейших фашистских движений, а либерализм — их главной мишенью. «Краеугольный камень либерализма, — издевался один из финских интеллектуалов, усвоивших идеалы контрпросвещения, писатель Эрнульф Тигерстедт, — это понятие человеческого разума, и в его разумной системе нет места для чего-то столь неразумного, как меч». 23
Послание контрпросвещения мощно прозвучало и в составленном в конце 1930-х годов финским профессором Йоханнесом Экввистом изложении сущности немецкого национал-социализма. Экввист определил его как восставшего против проекта Просвещения, последнего и победоносного противника. Гитлер, по мнению Экввиста, пришел, чтобы завершить восстание против тирании либерализма, исправительное движение, которое должно было исцелить и восстановить идеальное состояние:
36
На большей части земного шара все еще господствуют идеи, порожденные и распространенные по миру Французской революцией. Тот факт, что последствия мировой войны пошатнули господство этих идей, и прежде всего то, что безжалостная последовательность большевизма исказила их до гримасы гибели, способствовал тому, что их сторонники с еще большим упорством и упрямством стали отвергать нового противника. Человечеству, которое все еще верит или думает, что верит в эти идеи, не хватает как способности, так и смелости и доброй воли, чтобы понять послание национал-социализма, не говоря уже о том, чтобы принять его. 24
Несмотря на усилия философов контрпросвещения, триумфальное шествие либерализма в XIX веке ускорилось до сокрушительного превосходства, когда он вступил в союз с другой великой идеей века, национализмом. Союз Просвещения и национального самосознания оказался взрывоопасной смесью, породившей европейские либеральные революции. Поэтому каждый консерватор изначально относился к обеим идеям с недоверием. В частности, националистические требования о создании национальных государств, населенных одной и единой нацией, представляли угрозу для многонациональных империй, таких как Австрия и Россия.
Европейские сословные общества также распадались одно за другим под давлением требований о равенстве и демократии, в которой было бы представлено все большее число граждан. XIX век стал веком смертельной агонии европейских королевских домов; к 1906 году ни одна крупная европейская монархия не оказалась способной ответить на вызов либерализма. Единственным способом, которым они выжили, было превращение в конституционные монархии. На практике они тоже были либеральными демократиями, и бывшим помазанникам Божьим в них не предлагалось ничего, кроме роли церемониального главы государства.
Идея национального государства заменила идеал многонациональной империи, сплоченной правителем и традицией. Национальные государства должны были быть государствами, населенными расово, лингвистически, религиозно, этически, идеологически и культурно единым народом. И чтобы конечная цель национального государства была достигнута, оно должно было собрать всю нацию в общих границах. Тем, кто отказывался приспособиться к идеалу единства, не было места в кругу нации, а значит, и в национальном государстве. Эта идея, конечно, была с самого начала неосуществимой. Единых наций и национальных государств никогда нигде не было, и попытка их создания неизбежно привела бы к конфликтам. Требования национального единства и единодушия сами создавали конфликт, решением которого они хотели себя представить. Однако в течение столетия европейцы настолько всесторонне усвоили национализм, что национальное самосознание стало частью идейного мира как у консерваторов, так и у социалистов. Антилиберализм, представленный контрпросвещением, также принял национализм в качестве своего партнера, и ключевые темы европейского фашизма начали вырисовываться.
Финский национализм возник одновременно с другими европейскими национализмами в XIX веке. Даже в период, предшествовавший государственной независимости, Финляндия была совершенно типичной европейской страной, где культурные и идейные течения континента влияли точно так же, как и везде. Конечно, Финляндия также была европейской периферией, положение которой на окраине было следствием географической удаленности от культурных и экономических центров континента, языковой изоляции и скромного политического веса, обусловленного малочисленностью населения. Тем не менее, Финляндия не осталась в стороне ни от одного из наиболее значительных культурных влияний, таких как национализм. Достижения языкознания в XIX веке выявили обширную финно-угорскую языковую семью, калевальскую родовую общину, и придали силы также видению общего финского и родственного финнам народа. К середине века это видение уже вдохновило на сбор в Восточной Карелии эпической поэзии, которая считалась основополагающим мифом финской нации, и на наброски границ будущего финской национальной державы, Великой Финляндии. В самых смелых мечтах она должна была включить в себя все родственные финнам народы. Как это было свойственно и другим национализмам, у других родственных финнам народов особо не спрашивали, хотят ли они, возможно, стать частью маячащей в будущем великой финской родины, в которой самим финнам отводилась бы роль первопроходцев и лидеров.
Национальная идея и тесно связанная с ней мысль о культурно единых, всеобъемлющих национальных государствах вдохновляла огромное количество современников. «Чтобы мы могли стать настоящим культурным государством, — писал националистический активист Юрьё Рууту, — наше государство должно использовать всю ту территорию, которую сама природа определила как место жительства финского племени». Кроме природы, эти границы определил и пророк финской национальной идеи Йохан Вильгельм Снелльман: «Где проходит языковая граница на востоке, туда должна простираться и граница государства». 25
Хотя Снелльман и не добивался реализации своих идей насильственным путем, его цели, представления о единстве нации и «естественных границах», были чрезмерно натянуты по отношению к реальности и возможностям. С той же проблемой столкнулись и все другие проектировщики единых и всеобъемлющих национальных государств: Европа была этнически, культурно и лингвистически пестрым континентом. Особенно в центральных регионах континента, в Центральной Европе, различные национальности, языковые группы и религиозные конфессии жили в вавилонском смешении рядом, среди и вперемежку друг с другом. Тот, кто хотел построить национально единые государства, должен был бы произвольно передвигать существующие границы, чтобы собрать хотя бы осколки одной национальности в единое политическое целое. Если государство, помимо прочего, должно было быть внутренне однородным, то другие национальности или языковые или религиозные меньшинства должны были либо принять новую идентичность, ассимилироваться в новую нацию или переехать в другое место. Это уравнение было практически невозможно решить без принуждения. Оказалось, что его также невозможно было решить без войны.
Да будет война!
Повсюду в Европе XIX века националисты понимали неизбежность войны, если они хотели достичь своих далеко идущих национальных целей. Поскольку война была необходимостью, из нее сделали также добродетель. Поэтому в программу радикального национализма, не чуравшегося насилия, органично вошло восхищение войной и насилием. Для значительной части европейской интеллигенции «прекрасная эпоха» континента, la Belle Époque, была не чем иным, как подготовкой к потрясениям и перевороту.
Философские темы контрпросвещения и националистические цели нашли друг друга. В результате по всей Европе стали раздаваться гулкие вздохи, выражающие тоску по очистительному насилию. Во Франции один из радикальных националистов 1880-х годов, делавший политическую карьеру генерал Жорж Буланже, говорил о жизнеутверждающем эффекте кровопролития, так же как и писатель Раймон Гуаско, для которого война была также «величайшим спортом», необходимым пробудителем и хранителем воли к жизни. В Британии в поэме Теннисона «Мод» мир был «полон несправедливости и позора», а война — «чистой и истинной». 26
Проповедь очистительного и искупительного насилия к концу XIX века стала обычной и общепринятой во всех буржуазных интеллектуальных кругах Европы. Даже для такого мыслителя, как немецкий социолог и философ Макс Вебер, европейская война, наконец-то начавшаяся в августе 1914 года, была «великой и чудесной». Для великой фигуры литературы Томаса Манна война означала «очищение, освобождение и огромную надежду». Немецкие социал-демократы также с энтузиазмом вступили в борьбу против «краха, гибели и неописуемой нищеты», угрожавшей восточным частям Германии в условиях российской оккупации. 27
Для итальянских националистов второй половины XIX и начала XX веков война также была инструментом, предвестником революции, ведущей к национальному возрождению. Ведущей фигурой итальянского национализма был Габриэле Д’Аннунцио, поэт, писатель, авантюрист и эротоман, который стал рупором культурного протеста против либеральной Италии. Протест Д’Аннунцио был направлен против предполагаемой культурной посредственности либеральной Италии, поскольку республика так явно потерпела неудачу в создании нации и великой державы. В основе культурной революции, которую продвигали такие националисты, как он, были авангардизм, ницшеанский витализм, преклоняющийся перед молодостью и жизненной силой, футуристическое восхищение силой и потрясениями, а также презрение к парламентаризму и демократии. 28
В Италии националисты также сформировали внешнеполитическую группу давления, которая хотела, чтобы Италия стремилась к национальному единству через завоевательную войну. Современный мир приводили в движение «необходимые кровопролития», промышленная цивилизация нуждалась в трупах для своего питания, войны были быстрым и героическим путем к власти и богатству. Италия также была экономически и интеллектуально зависима от других, особенно по сравнению с «державами-завоевателями» Европы — Великобританией, Францией и Германией; поэтому решения, которые националисты предлагали Италии, были быстрая индустриализация и война. Для этого, естественно, требовался и рабочий класс, но без его собственных идей. По словам одного из передового мыслителя итальянского националистического движения Энрико Коррадини, социализм должен был быть «национальным социализмом, потому что Италия была нацией пролетариев, нацией рабочих». Эмиграцию следовало остановить, направив энергию нации на внешнюю агрессию, которая открыла бы новые перспективы для итальянских масс. Через завоевательную войну можно было бы найти источники национальной дисциплины, и на поле битвы нация была бы выкована в единое целое. Вывод Коррадини был прост: «Так да будет война! И пусть национализм в Италии поднимет волю к победоносной войне».29
Финский народ и народ-чухна
Усилившаяся в конце XIX века в Финляндии идея независимости была следствием зарождения финского национализма в том же темпе, что и другие европейские национализмы. Его самыми ярыми и радикальными сторонниками стала разочарованная и чувствовавшая себя обделенной часть молодого поколения. Особенно для академической молодежи, родившейся в 1880-1890-х годах, общественное развитие в годы угнетения в начале XX века представляло ощутимую угрозу. С Февральского манифеста 1899 года начался пятнадцатилетний период прерывистой унификационной политики, с помощью которой Россия стремилась теснее связать окраины своей империи с метрополией. В Финляндии это воспринималось как угнетение, а самые активные периоды унификационной политики были названы «годами угнетения». С точки зрения финской интеллигенции и борцов за независимость, укрывшихся в своем собственном мире, дела, казалось, неуклонно шли к худшему. Последовавший за всеобщей забастовкой 1905 года период реформ был недолгим. Проведенная в результате всеобщей забастовки парламентская реформа, казалось, только еще больше осложнила национальную ситуацию. Давление со стороны России оставалось сильным.
Сначала исчезло чувство единого народа. С точки зрения финской интеллигенции, Февральский манифест был нападением на финский народ; правда, под народом они подразумевали тот народ, который в сельской местности с удовлетворением возделывал свою землю и чьи представители, лучшая часть крепких крестьян, были избраны ими в сословный сейм. После парламентской реформы интеллигенция и чиновничество вынуждены были привыкнуть к народу, который голосовал по классовому принципу. Народ, который считался стабильным и сдержанным, внезапно превратился в стадо быков, разделенное на политические группировки, которые кричали друг другу в уши в зале заседаний Хеймола. В то же время самую необразованную и склонную к безнравственности часть народа соблазняли на жадность и низкое корыстолюбие бессовестные агитаторы, распространявшие слухи о разделе земли приспешники жандармов и пустомели, говорившие от имени рабочего класса. Оказалось, что существовало две Финляндии и два народа: благонамеренная, старая и стабильная родина и ее народ, и новый, раздираемый противоречиями, полный страстей народ; по словам писателя Майю Лассила, «финский народ и народ-чухна», которые были двумя разными вещами.30
Помимо единого народа, раскололась и элита, так как и она не выступала единым фронтом перед лицом российской угрозы. По мнению сторонников пассивного сопротивления, лучшей тактикой было уклоняться от ударов как можно дольше, ожидая лучших времен; по мнению активистов, с несправедливостью следовало бороться открыто. Кроме этого разделения, в рядах элиты всегда и везде встречались оппортунисты, которые при удобном случае занимали такие должности, с которых «люди чести» — их в этих кругах называли борцами за законность — были уволены. Их предательство со стороны тех, кого считали своими, казалось самым подлым. «Следует также помнить, — с горечью вспоминал активист Пааво Суситайвал десятилетия спустя, — что в годы угнетения многие негодяи из нашей так называемой буржуазии из эгоистичных соображений становились приспешниками угнетателей».31
Поведение отечественной буржуазии в Финляндии в годы угнетения также вызывало беспокойство у ориентированной на активистов интеллигенции. Буржуазия управляла промышленностью и торговлей, совершенно не заботясь о происходящей национальной борьбе. Корыстная деятельность работодателей разжигала классовые различия и беспорядки почти так же эффективно, как и угнетение со стороны метрополии. Конфликты на рынке труда, казалось, разделяли общество именно так, как проповедовали социалисты в рабочих домах, стоящих рядом с фабриками: на трудящийся пролетариат и наживающихся на прибыли богачей.
Нужно было спасать то, что можно было спасти. Интеллигенция ухватилась за национальное просвещение. Молодежи нужно было привить понимание национальной борьбы. В прессе, а также от народных школ до сельскохозяйственных училищ и лицеев создавался единый образ политической ситуации в Великом княжестве. Из изменения курса политики России в отношении Финляндии и попыток унификации управления Великого княжества в Финляндии с помощью сознательной пропаганды была создана картина национальной угрозы. Дело представлялось в таком свете, что речь шла не о политике — о которой, конечно, и шла речь, — а о более высоких ценностях, о родине и борьбе маленького народа против несправедливости.
Воспитанная и выросшая в такой атмосфере молодежь остро ощущала ограничения свободы слова и собраний в период генерал-губернаторства Бобрикова и ссылки начала 1900-х годов. Многие активисты описывали призывные забастовки 1902 года как отправную точку своего национального пробуждения; в них, самое позднее, встретились национальная просветительская работа и национальная реальность. Учащаяся молодежь средних школ сыграла важную роль во многих национальных начинаниях, как во всеобщей забастовке, так и в мелкой активистской деятельности. Наиболее ощутимо на молодежь влияли такие события, как забастовки призывников, в результате которых непослушные чиновники наказывались увольнениями. Угроза, которую теоретически объясняли в газетах, на вечерах и в школах, казалось, материализовалась в судьбах чиновников своего города и деревни.32
Многие последующие националистические радикалы учились в школе, получали образование или вступали в трудовую жизнь в годы угнетения. Активизм был идеологией, основанной на систематическом повторении одной истины; финны были жертвами, у них было право защищаться, у них было право на насилие. Учащиеся средних школ, студенты, дочери и сыновья крестьян, усвоившие патриотический дух, а также рабочая молодежь широко восприняли идею о том, что насилие является инструментом сопротивления, когда народ находится под угрозой. П. Х. Норрмен, принадлежавший к числу студенческих активистов, так описывал душевное состояние своего поколения:
Те молодые, о которых здесь идет речь, — выросли в возбужденной патриотической атмосфере лет угнетения и с пылким энтузиазмом следили за ходом борьбы; они чувствовали удары, наносимые стране, так интенсивно, как это может чувствовать только молодежь. Их любовь к родине была не меньше, чем у старших, но — она приобрела иную форму. Конституцию и правопорядок они никогда не видели в силе, и поэтому не слишком о них заботились, но зато они очень хорошо чувствовали, что страна в беде и откуда грозит опасность.33
Пророк черного рассвета
Одним из разочарованных молодых людей начала 1900-х годов был писатель Кюёсти Вилькуна, родом из Нивала в Центральной Остроботнии. Вилькуна, родившийся в 1879 году, встретил свою смерть, не успев увидеть воплощения большинства своих видений. Однако в его мышлении можно выделить все ключевые предпосылки, идеологические реакции и интеллектуальные решения европейского фашизма XX века. Вилькуна, имевший крестьянское происхождение, вышел из семьи, отмеченной «суровой, узкой, часто меланхоличной религиозностью» движения «кёртти». В системе ценностей его семьи приемлемыми были только карьера священника или крестьянина; Вилькуна не стал ни тем, ни другим. Скромное социальное происхождение заставляло Вилькуну всю жизнь бороться с чувством социальной неполноценности. Религиозность в доме также осложнила его отношение к религии. Вера отца была одновременно и объектом бунта поколений, и чем-то, от чего Вилькуна так и не захотел полностью отказаться. 34 Предпосылкой радикализации Вилькуны также был разочарованный финский национализм начала 1900-х годов. Студенческая молодежь бунтовала против поколения, родившегося в середине 1800-х годов и доминировавшего на политической сцене, — «самодовольного и равнодушного поколения». Вилькуна обвинял его в оппортунизме: национализм, идеи трезвости и нравственности были «коньками», которые вели к главной цели: портфелю сенатора. 35 Национальная надежда времен убийства Бобрикова и всеобщей забастовки к 1910-м годам улетучилась. Казалось, что все это время было отмечено «медленной агонией малых народов». По мнению Вилькуны, финскую нацию разъедали «подкрадывающиеся болезни»: пацифизм, интеллектуализм, женское движение и «буйные идеи либерализма о братстве, свободе и равенстве».
Они подтачивали силу нации как раз в тот момент, когда она должна была оставаться твердой, жесткой и мужественной, чтобы противостоять деспотичному правлению России. Упадочные идеалы того времени можно было победить только радикальными мерами. Надежда Вилькуны была связана с насильственным переворотом. «Вставайте, монголы!», — писал он во время итало-турецкой войны в 1912 году: «О, если бы ты, Чингис, пришел еще раз и утопил в крови европейскую лакейскую цивилизацию, и, как горный вихрь, смел это поколение, страдающее духовным поносом, которым правят истеричные женщины и духовной пищей которого служат рыночные рекламы».36 Жажда насильственного переворота проистекала из трудностей и разочарований собственной жизни Вилькуны: нескончаемых финансовых забот, чувства неполноценности по отношению к высшим слоям сословного общества и столичной интеллигенции, постоянных провалов в писательской карьере, разгромных рецензий, следовавших даже за успехами, ощущения отчужденности по сравнению с друзьями, легко вращавшимися в литературных кругах Хельсинки, между жаждой любви и желанием подчинить женщину, постоянно присутствующего конфликта между влечением к алкоголю и въевшимся в душу чувством греха из-за сурового религиозного воспитания. Вилькуна хотел быть культурным варваром, по отношению к господам — человеком из народа, по отношению к народу — господином. «Как я в своей первозданной силе презираю и ненавижу этих пресыщенных отпрысков культурных родов, — писал Вилькуна, — чувствуя, что могу во всех отношениях „поставить их на место“, и наоборот, „как я ненавижу и презираю тебя, ты, грубый и жестокий выскочка, который не умеет ценить культуру“». Все общество нужно было создать заново, чтобы он и ему подобные наконец-то заняли заслуженное положение во главе нации, как моральные ориентиры, искоренители нравственного разложения, гаранты продолжения «лютеранского уклада». 37 Вилькуна был человеком слова и меча, проповедником-воином, который позже охотно появлялся в форме шюцкора, чей мощный язык стремился к приземленной, незамысловатой народности. Он также был восторженной натурой, боровшейся с депрессией и алкоголем, в которой «тихая, граничащая с болезненностью, задумчивость с влажными глазами временами была сильной стороной». Яростные нападки на «прекраснодушных» были попыткой скрыть то, что сам Вилькуна был чувствительной и склонной к элитизму «прекрасной душой». Дерзкие решения, которые, «стиснув зубы», было решено соблюдать всегда и вовеки, держались до следующего искушения. Противоречивое отношение к религиозности (движению «херяннейсюс») своего детства проявлялось в том, как Вилькуна кружил вокруг религии, не в силах ни полностью принять ее, ни отказаться от нее. Религиозные собрания и пьяный угар сменяли друг друга в его жизни: то «ненавистных ближних и политических вонючек сбивали с ног» силой самогона на посиделках, продолжавшихся до утра, то тревога после пьянства заставляла его давать вечные обеты трезвости или «принимать учение Христа как единственный путь к спасению».38 Вилькуна со своими размышлениями, возможно, сам того не зная, легко вписался в европейскую мысль своей эпохи. Война, кровавая жертва, была путем к рождению наций, война была полезна для души и тела. Кровь должна была пролиться. Не только потому, что только через борьбу, самоотречение и жертву могла родиться добродетельная, единая нация, но и потому, что среди народов, еще только стремящихся к независимости, верили, что место среди настоящих наций можно заслужить, лишь продемонстрировав собственную готовность к крайним жертвам.39
В феврале 1913 года Вилькуна написал свое стихотворение «Да придет война!», которое стало громогласным приговором наступающему XX веку. Стихотворение было безудержным, перечислительным излиянием против всего, что Вилькуна не мог принять: просветительских идеалов свободы, братства и равенства, пацифизма, женского вопроса, движения за трезвость, либерализма и свободомыслия. Современность с ее вялыми идеалами была «Авгиевыми конюшнями», которые очистятся лишь тогда, когда через них твой Геркулес войны пропустит бурлящие потоки крови и твоим огнем вычистит свалку идей. Посему: да придет война и кровавые одежды! Разочарованные интеллектуалы, подобные Вилькуне, восставали против предыдущего поколения и состояния собственной культуры, а затем переходили к все более радикальным видениям очищающего насилия, которое смело бы старое общество и его удушающие структуры. На руинах старого упадка взойдет новая элита, ведомая воинами. Она станет свидетелем рассвета новой националистической эры, идеализирующей молодость, жизненную силу и решительные действия, — черного рассвета эпохи фашизма. Интеллектуалы, подобные Вилькуне, были особенно влиятельны в молодых, неудовлетворенных национальных государствах Европы и среди тех, кто только стремился стать государственными нациями. К августу 1914 года значительная часть националистически настроенной европейской интеллигенции была более чем готова к насилию. Она верила в войну. Она восхищалась войной. Она жаждала войны. И войну она получила.
III
Люди, которые не забывают: очерки финского военного поколения
Топор войны нанес удар в наше сердце, неизлечимую рану в центр нашей жизни.
Й. Э. САЙНИО
«[Мировая война] была бурей над старой Европой, которая сурово встряхнула ее народы, впадающие в вялость из-за избытка культуры», — так описывал свой военный опыт один из ветеранов мировой войны, Арне Сомерсало. Когда летом 1914 года началась война, он готовил диссертацию в университетском городе Йена в Тюрингии, в центральной Германии. Сомерсало добровольцем вступил в германскую армию и воевал почти четыре года, правда, в основном на штабных должностях, вплоть до болот Ипра и ада Соммы. Мировая война была для него противоречивым опытом смерти и созидательного разрушения: «Что было дряхлым или гнилым, распалось и рухнуло, и хотя миллионы пали, и одно поколение было ввергнуто в нищету, в жизни наций это не значит больше, чем плывущее облако на летнем небе. Но бессмертен каждый мужественный поступок и с готовностью принесенная жертва, что чистой поднялась на поверхность из потоков крови и преступлений, ибо она собирает всех, кто признает долг прошлого, строить будущее своего племени. И наконец: даже если бы мировая война не принесла ничего хорошего, она все же освободила наш народ из смертельных, склизких объятий отвратительного спрута!» 40 Представитель европейской интеллигенции Арне Сомерсало, вовлеченный в мировую войну, как и другие, впитал в себя ценности и установки, порожденные военной подготовкой и фронтовым опытом. После войны он стал одним из ключевых представителей поколения радикализма, влиятельной фигурой Патриотического народного движения (IKL), депутатом парламента и главным редактором газеты «Ajan Suunta». Сомерсало принадлежал к известной промышленной семье из Тампере, все трое детей которой стали видными деятелями в первые годы независимости. Брат Энси был борцом за свободу и, будучи комендантом Варкауса во время гражданской войны, нес ответственность за чистки, последовавшие за битвой при Варкаусе. Сестра Айли стала детской писательницей, чье произведение «Приключения гнома-мастера», опубликованное в 1919 году, черпало вдохновение, очевидно, не из приключений братьев в мировых и финских войнах. 41 В Европе многонациональных и мультикультурных империй довоенного времени для финского национализма, который представлял Сомерсало, было не так много места. Когда буря мировой войны пронеслась над континентом, внезапно все показалось возможным. Крах многонациональных империй открыл в Восточной Европе огромную новую арену военных действий, где стало возможно ощутимо продвигать цели, порожденные идеей национализма. Вооруженная сила могла сделать невозможное реальностью. Послевоенная Европа предложила националистической политике привлекательную страну новых возможностей, как позже заметил Юрьё Рууту: «Вряд ли какой-либо фактор в современной государственной жизни одержал такие большие победы в результате мировой войны, как национальное чувство». 42
Европейский фронтовой опыт
Офицер-сапёр Российской императорской армии Йохан Фабрициус пережил войну по другую сторону линии фронта по сравнению с Арне Сомерсало, но описывал ее очень похожим образом. Самым важным было чувство общности, которое пересекало национальные границы и прежние линии фронта. По словам Фабрициуса, между членами «братства фронтовых ветеранов» «завязывались невидимые узы — узы понимания и товарищества, которые редко даруются мужчинам, странствующим по этому миру».43
Со своими ощущениями объединяющей и обязывающей силы фронтового опыта Фабрициус был далеко не одинок среди своих современников. Опыт и попытки его вербализации после войны были и в других местах примечательно похожими. Повторяющимся сюжетом был мужской коллектив на фронте и его добродетельные, сознательные, смелые, самоотверженные члены. В том же духе свой военный опыт описывал и другой финн, ветеран войн за независимость Эстонии и Латвии, гражданской войны в России, советско-польской войны и Французского иностранного легиона Каарло Курко. И в его описании возникла тема фронтовиков как профессионалов войны, из которых выгорели все человеческие чувства, мешающие выполнению задачи:
«Я восхищался этими людьми. Они вообще ни о чем не думали. Война была у них в крови, это была работа, все остальное они забыли. Смерть казалась такому человеку легкой, но они ее не желали. Темой разговоров всегда были красивые девушки, жирные свиньи, водка и русские». 44
Гораздо более известный писатель, чем Курко, немецкий автор Эрнст Юнгер описывал своих закаленных войной товарищей в том же идеализирующем тоне. Юнгер, участвовавший в оборонительных боях на Сомме в августе 1916 года, запечатлел момент, когда говорил один связист, видевший бой:
«Кто падает, тот остается лежать. Тогда никто не придет на помощь. Никто не знает, выживет ли он. Каждый день нас атакуют, но прорваться не могут.» 45
Писатель одобрительно отметил эти слова: «В этом голосе осталось только великое безразличие; остальное сгорело в пылу огня. С такими людьми можно воевать». Юнгер неоднократно возвращался в своем творчестве к теме закаленных на фронте, очищенных, облагороженных войной людей: «В этих людях билась живая черта, которую суровость войны подчеркивала и в то же время одухотворяла: огромная радость при наступлении опасности, доблестная воля к победе. За четыре года в огне очищалась все более чистая, все более бесстрашная гвардия воинов».46
Литературные описания отчасти объясняют, почему для многих ветеранов военный опыт стал ареной самых сильных эмоций в их жизни. Для солдат, подобных Сомерсало, Фабрициусу и Юнгеру, фронт был испытанием на мужество, где можно было очиститься, закалиться, победить себя и подняться до уровня своих идеалов.
Фронтовые солдаты в своих подразделениях формировали мужские сообщества, испытывавшие сильное чувство сплоченности. Фронт для многих молодых и социально скромных мужчин был первой и, возможно, единственной в жизни возможностью заслужить уважение товарищей и вышестоящих по социальному положению начальников или получить приносящее удовлетворение положение надежного члена своего отряда. Фронт был домом, собственное подразделение — семьей. Отличие на фронте могло открыть путь к социальному росту в гражданской жизни для тех, кто сумел своими военными подвигами достичь офицерских званий или высоких наград.
Абсолютно мужской характер фронтовых сообществ привел к тому, что привязанность женщин к европейскому фронтовому поколению была слабее и противоречивее. Им пришлось остаться частью презираемого фронтовиками тыла и таким образом они оказались исключены из фронтового сообщества. Из-за доминирующей идентичности фронтовика возникшие на ее основе фашистские движения по всей Европе приобрели подчеркнуто маскулинный характер. Сражение, встреча с опасностью и выживание, самопожертвование ради других и достижение уважения в качестве члена группы могли сопровождаться сильными чувствами восторга и благополучия. В условиях, отличных от экстремальных условий войны, их невозможно было достичь. Их крайней формой был боевой экстаз — эндорфиновый кайф, вызванный разрядкой напряжения, который делал переживание нереально сильным и вызывал прямую зависимость. Эрнст Юнгер описывал это как «слияние с космосом». Однако таким образом военный опыт также калечил, поскольку гражданская жизнь не могла предложить многим ничего подобного в плане эмоциональных переживаний. С фронта можно было уйти, но из того, кто однажды его пережил, фронт не уходил никогда.47
Финская мировая война
«Это война не только за отечество, это одновременно война света против тьмы, война Давида против Авессаломов, да — война Бога против дьявола», — громогласно заявлял Кюёсти Вилькуна в начале 1918 года. Угроза насилия, нараставшая к осени 1917 года, вылилась в Финляндии в конце января 1918 года в гражданскую войну. Писатель, денди и артистическая душа, уставшая от университетской учебы, встретил войну с чувствами ярости и восторга. Война была очищающей бурей, которую он ждал пять лет.48
Для активистов независимости, подобных Вилькуне, восстание красных поначалу было большим разочарованием. Согласно их интерпретации, рабочий класс вместо интересов нации выбрал классовые интересы и интернационализм, которые он и начал продвигать путем восстания. Мечта о совместной освободительной борьбе против русских угнетателей разбилась о внутреннюю борьбу против финских мятежников. Неудивительно, что белые современники интерпретировали большевизм как чуму, пришедшую извне, как яд, который развратил финский рабочий класс. Это был гнойник, который нужно было выжечь самыми жесткими методами. Вилькуна в письме Эйно Райло уже прямо говорил о духовном фоне грядущей чистки:
«Только тогда и независимость будет иметь какой-то вкус, когда прольется кровь. И в этой же заварухе будет уместно вымести и отечественный хулиганский элемент туда, где ему и место».49
Поскольку действия белых были более эффективно организованы и спланированы, они после неуверенного начала стали добиваться успеха в войне. Для достижения победы в гражданской войне, носившей характер народного восстания, и красная, и белая стороны считали необходимыми чрезвычайные меры — террор. Это не называли террором, а называли чисткой, умиротворением, искоренением мятежного духа, наказанием предателей. На стороне белых самыми эффективными инструментами подавления сопротивления оказались летучие отряды, собранные из молодых людей, и полевые суды, укомплектованные элитой населенных пунктов.
Победа в гражданской войне и окончание боевых действий не означали демобилизации политической военной силы, созданной для войны, — шюцкоров. Мартти Пихкала из Ювяскюля, планировавший чистку отвоеванных у красных территорий, писал в апреле 1918 года, что правительство и сейчас, и в будущем нуждается в «бронированном кулаке, которым оно будет проводить свою волю, а также держать в узде нарушителей спокойствия и убийц».50
Пихкала был смесью пламенного проповедника, умелого организатора и оригинального чудака. Принадлежавший к священническому роду Гуммерусов, Пихкала, работая директором школы для глухонемых, поразительным образом сформировал свое мировоззрение. Его центральными столпами стали стремление к облагораживанию здоровой нации и моральная концепция, построенная на движении пробуждения (херяннейсюс). Позднее всего военная зима 1918 года превратила Пихкалу в последовательного и преданного национал-радикала.
Пихкала был активистом, вербовщиком егерей и, вместе с Сакари Кууси, самым значительным организатором шюцкоров в Центральной Финляндии осенью 1917 года. Ему также принадлежали первые планы по насильственной чистке территорий, захваченных белыми в гражданской войне. Несмотря на свои противоречия, Пихкала стал одной из центральных фигур финского национального радикализма. Его политическое присутствие простиралось от чисток гражданской войны через организации «Экспортный мир», «Замок Финляндии» и IKL до самого «завещания Свинхувуда».51
Пихкала рассматривал гражданскую войну как попытку государственного переворота со стороны социал-демократов, после подавления которой «учения Маркса и Каутского» были бы похоронены навеки. Помимо рабочих, усвоивших политически неверные идеи, угрозой будущему чистой нации были и горожане, блуждающие в рабстве своих страстей:
«…существуют особые, сомнительные люди, которых не волнует ничего, кроме собственного удовольствия. К таким людям относится тот длинноволосый парень в широких штанах, грубый в словах и еще более грубый в манерах, который в последнее время у нас стал очень известен. Того же сорта — будь он более или менее изысканным — франт в накрахмаленном воротничке и лакированных туфлях с тросточкой, который слоняется по улицам, заполняет всевозможные танцевальные и увеселительные заведения и известен тем, что потерял всякую способность контролировать свои половые инстинкты, будучи готовым удовлетворять их в любой момент — [и] распространять вокруг себя всякую духовную грязь и заразные венерические заболевания».
Ответом Пихкалы была суровая чистка, направленная на расовое облагораживание. В результате этого должна была наконец родиться достойная нация, расово чистая и нравственно безупречная белая Финляндия:
«Эти человеческие особи, опустившиеся ниже животного, должны быть раз и навсегда в первую очередь исключены из числа тех, кто имеет право продолжать род, и это исключение должно быть произведено абсолютно безжалостно».52
Хотя на фронтах мировой войны служили тысячи финнов, финской мировой войной была прежде всего гражданская война, произошедшая в начале 1918 года. Она вовлекла в себя наряду с егерями и другими фронтовиками мировой войны массы обычных финских молодых людей, когда мобилизованные по призыву в армию сената смогли вкусить различные аспекты войны. И в Финляндии военный опыт стал общим фактором, определившим жизнь целого поколения. Гражданская война с силой выдвинула на первый план ключевые для зарождения фашизма переживания: предательство собственного народа, необходимость жестокой чистки, опасность внутреннего врага и необходимость продолжать войну против внутреннего врага даже после окончания собственно боевых действий.
Этапные свиньи и подвальные герои
Независимо от национальности, мировая война имела мрачную тенденцию формировать сознание всех, кто через нее прошел, в одном и том же направлении. Война стала поэтому европейским опытом поколения, превосходящим все остальные, неслыханным ранее образом объединяющей молодых мужчин молчаливой связью. Она сформировала общую идентичность фронтовика, от которой многие не могли избавиться даже после окончания войны. Поэтому фронтовой опыт влиял на политику межвоенного периода во всех странах, участвовавших в войне. Среди самых далекоидущих политических тем были ненависть и отвращение, объединявшие ветеранов армий мировой войны, к этапу, тылу, к тем, кто находился вдали от непосредственной опасности или вовсе вне фронтовой службы. Слово «этап» было заимствовано в финскую военную терминологию из немецкого языка. Etappe означало организацию тылового обеспечения армии, а словом Heimat, означающим родину, обозначали всю тыловую область, домашний фронт. 53
Представления немецкого фронтового поколения о сущности этапа, тыла, сформировались как полностью отрицательные. Это отразилось в более поздних описаниях представителей фронтового поколения: во время войны этап «впитывал в себя, как губка, дезертиров и спекулянтов», после окончания войны этап «разошелся на грабительские набеги и снова всплыл из кишащего болота коррупции, окружавшего новых властителей». Также, по словам Арне Сомерсало, следовало признать, что «корыстолюбие и эгоизм в тылу [в глубине страны] процветали в бесстыдной форме». Этап и тыл с точки зрения фронтовиков по мере продолжения войны приобретали все более негативные значения; слово «дом» в конечном итоге стало полностью отрицательным. 54
Опыт и вера в гнилость тыла пересекали национальные границы. В мире солдат и бывших солдат, принявших идентичность фронтовика, тыл всегда предавал. Юхан Фабрициус описал это чувство в своем романе, в сцене, происходящей на вокзале Сейняйоки в 1918 году. На мгновение показалось, что белая Финляндия поднимется как один человек и отбросит мелочность, которая, как предполагалось, стояла на пути единства и величия нации. В мыслях
рисовалось будущее отечества, полное счастья и успеха, теперь, когда все были так готовы к жертвам и все ничтожные споры и ссоры были отброшены в сторону. Счастье этой страны было действительно чем-то, за что стоило сражаться и умирать — и серошинельники на передовой имели свою самую крепкую опору в доверии к тем, кто находился за линией фронта; это, несомненно, дало бы всем ту силу, которая была им нужна, чтобы довести до конца свою серьезную и трудную задачу. 55
Но энтузиазм оказался преходящим. Тыл и белой армии оказался сценой эгоизма, корыстолюбия и военной спекуляции:
Не думай, что и здесь не интригуют… В высших штабах уже миновала первая стадия энтузиазма. 17 Можешь быть в этом уверен. Уже дошли до того, что каждый чувствует, что прочно сидит в седле, и теперь пытаются оттеснить других и получить более высокие посты, и… вот увидишь, когда все это закончится, ни ты, ни я, ни кто-либо из нас, кто что-то сделал, не будем иметь особого права голоса… Другие уж сумеют лучше нас насладиться плодами победы.56
Негодование Фабрициуса проистекало прежде всего из опыта радикалов, считавших себя самыми идеалистичными и самоотверженными борцами за свободу. «Нет, мы, белые воины, сражаемся не для того, чтобы быть вознагражденными», — восклицал капитан Норд у Фабрициуса. Однако после войны «штабные крысы, этапные свиньи, сачки и подвальные герои» вытеснили радикалов с принадлежавших им по праву позиций в финском обществе. В государстве, которое они, прежде всего, считали созданным ими самими. Хотя белые воины, по словам Фабрициуса, и не сражались в надежде на вознаграждение, их сильно озлобил опыт его неполучения.
Горечь, порожденная чувством обездоленности, стала лейтмотивом опыта националистических радикалов в межвоенную эпоху. В своей статье, опубликованной в 1920 году, друг и коллега-писатель Фабрициуса Бертель Грипенберг обвинял «центристов, братающихся с социалистами, в том, что они сводят на нет достижения Освободительной войны, открывая ворота тюрем и оттесняя освободителей Финляндии в правительственной политике и при заполнении должностей». Те же акценты звучали и после 1944 года в легенде добровольцев СС и активистов-фронтовиков об их роли в послевоенной Финляндии. 57
Военное негодование по отношению к «этапу», который отделался легче, к тылу, который, как предполагалось, наживался за счет сражающихся войск, и к оказавшейся гнилой родной земле расцвело в националистической политике межвоенного периода. Это чувство создало основу для теории заговора, которая развилась, чтобы объяснить опыт поражения и обездоленности. Юхан Фабрициус описывал этот же ментальный ландшафт в своих более поздних мемуарах, где он рассматривал причины поражения русских армий. Число тех, кто нес реальную ответственность за катастрофу мировой войны — за нищету окопов, страдания фронтовиков, разрушения и смерть — было так велико, что его невозможно было проанализировать, а виновных — назвать. Виновные были неопределенной массой безликих и безымянных сил. Но чем труднее было их идентифицировать, тем яростнее их можно было ненавидеть:
Виновные сидели за своими обеденными столами безнаказанно и безразлично к случившемуся, ели и пили хорошие вина, играли в преферанс и любили своих прекрасных женщин, и они продолжали бы жить и делать «политику», которая приносила страдания другим людям, которая угнетала нашу страну и вела их собственный народ [русских] к гибели. 58
Европа проигравших
Представитель европейского военного поколения, солдат Адольф Гитлер, в феврале 1915 года писал с фронта своему мюнхенскому знакомому Эрнсту Хеппу. Гитлер выражал надежду, что после войны сможет вернуться на родину, которая будет «чище от внешних влияний», чем прежде,
чтобы ежедневная жертва сотен, тысяч людей, поток крови, который льется изо дня в день повсюду, не только помог нам разбить врагов Германии, но и обрушил бы наш внутренний интернационализм. Это гораздо ценнее, чем какой-нибудь клочок земли. 59
Желание Гитлера не было особенно оригинальным. Напротив, видения внутренне единого отечества были мечтами националистических радикалов по всей Европе. Их осуществление требовало разгрома воображаемого внутреннего врага, устранения внутренней разобщенности. Это могло произойти только путем подавления особых групп и меньшинств внутри нации, а также противодействия «интернационализму», «космополитизму» и международному сотрудничеству.
Окончание мировой войны означало для националистических радикалов вроде Гитлера ужасающее разочарование. Все надежды, возлагавшиеся на войну, остались несбывшимися. Старая Европа, которой правили короли и императоры, рухнула. За крахом властных систем Центральных держав последовала экономическая катастрофа. Займы, взятые империями для ведения войны, обрушили банки и экономические системы даже в таких странах, которые были лишь на периферии мировой войны — как, например, в Финляндии. Демобилизация войск, особенно в проигравших войну бывших империях, проходила не по армейскому уставу. В гражданской жизни ждали трудовые конфликты, очереди за хлебом, неуверенность в будущем и болтливые политики. В Германии уличные парламенты контролировались социалистами и коммунистами. Революция в России для одних была исполнением желаний, для других — худшим кошмаром. Крах фронта для многих означал победу упадка над силами порядка, а военный опыт достиг кульминации в ощущении крайнего разочарования. Этот опыт объединял как Арне Сомерсало, сражавшегося в рядах немцев, так и Юхана Фабрициуса, воевавшего на стороне России: победа осталась недостижимой, тыл предал сражающиеся войска и продал родину социалистам и сброду. «Остались лишь рухнувшие идеалы», — писал Фабрициус, — «разбитые надежды, осколки, руины, лохмотья…».60
Война представлялась напрасной жертвой: жизненная сила нации была пролита впустую. Горечь быстро проявилась в политическом поведении бывших солдат. Историк Вольфганг Шивельбуш описал это для Германии как «культуру поражения». Нации, вышедшие из войны победителями, по крайней мере, получили некое оправдание своим жертвам и страданиям. Они смогли демобилизовать свои войска в большем порядке и быстрее вернуться к мирным условиям. В Германии солдаты остались делать политику силой винтовок, искать объяснение поражению и добиваться возмездия от предполагаемых предателей. 61
Горечь стала взрывоопасным источником политической мотивации. Ненависть к тылу, усвоенная на войне, в неизменном виде перешла в послевоенную политику; те же самые пагубные силы тыла по-прежнему занимали парламентскую политическую арену гражданской жизни. Самые далеко идущие политические последствия эта комбинация имела в крупнейшем проигравшем государстве мировой войны — Германии. Вера в предательство тыла проявилась в легенде об ударе ножом в спину армии (Dolchstosslegende). Согласно ей, непобедимую на поле боя армию вынудил сдаться крах тыла из-за забастовок и революции. Виновные, «ноябрьские предатели», были найдены среди не-национальных сил: социалистов, коммунистов, масонов и евреев. 62
Вера в удар ножом черпала свою силу из усвоенного фронтовым поколением грубого качественного различия между героическим, самоотверженным фронтом и корыстным, интригующим тылом. «Когда лучшие люди падали на фронтах, дома можно было бы хотя бы истребить паразитов», — так определил это разделение представитель радикализировавшегося поколения ветеранов мировой войны Адольф Гитлер.63
К поражению вело много путей. Италия стала государством-предшественником фашизма, хотя технически она и принадлежала к победителям мировой войны. Однако победа Италии была достигнута непропорционально большими жертвами. За столом переговоров она осталась далека от своих первоначальных целей. Самое сильное разочарование испытали именно националистические радикалы, которые наиболее рьяно выступали за вступление Италии в войну. Война должна была стать, по словам писателей-националистов Джованни Папини и Джузеппе Преццолини, «быстрым и героическим путем к богатству». Она оказалась топчущейся на месте кровавой мясорубкой, в которую брошенные массы молодых людей не приблизили мечту о строительстве новой Римской империи.
Победа Италии была, по выражению Габриэле Д’Аннунцио, vittoria mutilata, «урезанной победой», национальный подъем Италии остался незавершенным, а государственная и национальная целостность — всего лишь мечтой. Результатом стали разочарование, унижение и стыд. Вместо того чтобы раскаяться в том, что втянули страну в войну, националисты принялись искать виновных в том, что плоды победы были испорчены. Стыд обернулся атакой на предполагаемых предателей: социалистов, демократию, парламентаризм и всю либеральную республику. Не случайно, что символы, позже связанные с фашизмом, впервые проявились в послевоенных вооруженных авантюрах, в которых в последний момент пытались изменить исход войны в пользу Италии. 64
Среди итальянских сквадристов [чернорубашечников], насколько это возможно установить на основе исследований их происхождения, выделяются две группы. Первую составляли ветераны фронта, особенно члены специальных и горнострелковых частей и молодые фронтовые офицеры, для которых война чаще всего предлагала и положительные впечатления. Вторую группу составляли юноши, родившиеся после 1900 года, которые не успели попасть на войну, но которых привлекали культы романтического насилия, немедленно развившиеся вокруг фашистских движений, а также мечты о героизме, сплетенные вокруг острых ощущений и славы. Уличные бои против «внутреннего врага» были стихией молодых людей и открывали путь наверх в иерархии фашистских движений.65
Основной опорой фашистских движений межвоенной Европы повсеместно были ветераны мировой войны, которые по той или иной причине не были готовы перейти к мирному времени. Они хотели продолжать войну против внутреннего врага, ответственного за пережитые разочарования и неудачи. И они были более чем готовы применять насилие. Они прямо-таки жаждали его, потому что насилие имело искупительное, очищающее значение. «Готов убивать, готов умереть», — провозглашала в качестве своего девиза газета Il Popolo d’Italia, главным редактором которой был Муссолини.
Учение о непрерывной войне
Немецкий опыт предательства и презренности тыла черпал силу из понесенного поражения, а итальянский — из разочарования от завышенных ожиданий. В Финляндии разочарование принимало менее насильственные формы, ведь война все-таки была выиграна. Однако к радости победы вскоре примешались горькие нотки. Писатель Илмари Кианто в конце 1920-х годов описывал смятение, вызванное распадом чувства единства несоциалистического фронта, объединенного гражданской войной:
Освободительная война* в Финляндии, она теперь закончилась, и только теперь можно сказать, чем она была. Она была как молния, освещающая всю атмосферу, трескучая комета, которая внезапно погасла. Она была как чарующий сон с цветами жизни и смерти. Теперь мы все сидим в темноте, как грызущиеся уличные шавки. Взойди, солнце примирения, если ты есть! Но ночь непомерно длинна.66
*Так белые, победившие в финской гражданской, называли те события, изображая ее борьбой за незисимость от России, теперь уже Советской – А.К.
Освободительная война закончилась победой белых, но в результате родилось нечто иное, чем та Финляндия, за которую националистические радикалы отправились в поход. Первым разочарованием и причиной смятения было разделение финского народа надвое, предательство рабочего класса. Вторым, еще более горьким и труднопреодолимым предательством было отступничество своих от общего фронта. Радикалы чувствовали себя обойденными в республике, в решении судьбы которой они, по их собственному мнению, имели самое полное право участвовать.
Подобно своим итальянским идейным братьям, финские радикалы также расценили исход гражданской войны как поражение для себя. Война была выиграна, но мир проигран. Поражение пришло в форме республики, парламентаризма, мирного договора, заключенного с Советской Россией, и возобновления политической деятельности коммунистов. Поражение потерпела и предпочитаемая радикалами немецкая ориентация. Из Финляндии должны были «с Божьей помощью и помощью Гинденбурга» сделать великую страну до берегов и земель Беломорья и короновать финнам немецкого короля. Крах Германии и мир, заключенный за столом переговоров в Тарту, казалось, положили конец мечте о великой Финляндии. Тартуский мир в глазах радикалов стал финским Версалем, а республиканская повседневность межвоенного периода — «полукрасным позором». Самым явным символом поражения было то, что законодательство республики, казалось, допускало безнаказанное оскорбление веры отцов и других «высших ценностей». И в Финляндии поражение целей радикалов было следствием предательства, и самые грубые предатели нашлись, помимо орд «красных», в тылу, среди своих.67
Распад священных братств фронта после окончания войны казался многим солдатам крайне удручающим. Поэтому некоторые отправились продолжать военную жизнь в новые войны. Новая европейская военная арена открылась после окончания мировой войны в продолжающихся вооруженных столкновениях в Восточной Европе. Для финнов были доступны «племенные войны» (heimosodat), предшествовавшие заключению Тартуского мирного договора — конфликты в близлежащих регионах: Восточной Карелии, Ингерманландии и Эстонии. Они втягивали в свой водоворот как уже прошедших войну мужчин, так и юношей, которые таким образом стремились стать частью мира и опыта старших товарищей. В то же время они давали сопричастность к опыту, который воспитывал будущих членов фашистских движений. Финское военное поколение ковалось в горниле мировой войны, гражданской войны и племенных войн и, несмотря на разнообразие условий, стало тревожно похожим на свой европейский прототип.
Хенрик Экберг, исследовавший финские национал-социалистические группы, обратил внимание на то, что практически у каждого финского национал-социалиста было активистское прошлое; это были люди, родившиеся в 1880–1890-х годах, хорошо образованные по сравнению с большинством населения того времени и в основном происходившие из интеллигенции. Многие из них участвовали в деятельности активистов, в гражданской войне на стороне белых и в племенных войнах. Некоторые из ключевых фигур также были егерями.68
Контуры финского военного поколения становятся еще более четкими, если посмотреть на состав более поздней группы радикалов. Как и в других странах Европы, когорта родившихся в период 1890–1900 годов, так или иначе прошедших мировую войну, играла центральную роль. Как и в других фашистских движениях Европы, следующей шла группа родившихся после 1900 года. В Финляндии ее составляли молодые люди, не успевшие на поля славы мировой или гражданской войны, но с энтузиазмом принимавшие участие в племенных войнах, добровольно участвовавшие в других продолжавшихся конфликтах Европы или активно действовавшие в организации «Шюцкор».
Последними успели присоединиться родившиеся примерно к 1920 году, которые примкнули к целям старших поколений радикалов через такие организации, как Академическое Карельское Общество, или как добровольцы СС.69
Финские фашисты в межвоенный период, подобно своим европейским идейным братьям, стремились к национальному возрождению. Оно было бы достигнуто путем окончательного разгрома внутреннего врага, что в финских условиях означало прежде всего финских коммунистов. Как и в других странах, финские фашисты включали в список своих врагов и предполагаемые силы, стоящие за коммунизмом, — евреев и масонов. Когда внутренний враг будет разгромлен, путь будет открыт для решающего столкновения со страной-прародительницей коммунизма, для создания Великой Финляндии и осуществления предназначения финской нации.
Среди финского военного поколения наиболее влиятельное положение заняла группа людей, переживших мировую войну в других частях Европы, которые отнюдь не молчали в межвоенный период. Наряду с такими ветеранами фронта, как Фабрициус и Сомерсало, особенно влиятельную роль играли егеря, которые подверглись влиянию атмосферы, царившей в Германии времен мировой войны и ее вооруженных силах. Согласно известному изречению Клаузевица, война — это продолжение политики другими средствами. В мировоззрении радикализированных фронтовиков эта мысль перевернулась с ног на голову. Их политика стала продолжением войны другими средствами.
Эти чувства заставили вернувшегося с военного похода Кёсти Вилкуну на празднике шюцкора в Оулу в феврале 1919 года направить свое оружие против внутреннего врага. Его олицетворяла прежде всего все еще распространяемая социализмом «душевная болезнь». Только свержение социализма освободило бы «наш рабочий класс — от того духовного отравления и классовой ненависти, которые безответственные агитаторы годами разжигали в его среде». До этого Освободительная война никогда не закончится:
Борьба Белой Финляндии против Красной Финляндии еще не окончена. В вооруженном смысле она, конечно, окончена, и дай Бог, чтобы она в такой форме никогда больше не повторилась. Но она продолжается, так она и должна продолжаться как нравственная фронтовая борьба Белой Финляндии против морального разложения.70
IV
Белая и черная Финляндия – ядро и силы поддержки отечественного фашизма
Вы братья, перо и винтовка!
Эйто Райло
Поле за пллем, луг за лугом, насколько хватало глаз! Пожелтевшие листья, высохшая трава и вся эта осенняя атмосфера отражали неописуемую безысходную нужду и нищету», — так Йохан Фабрициус описывал белорусский пейзаж, открывавшийся из окна его поезда в сентябре 1917 года. Он писал о судьбе своего персонажа, капитана Норда, но через него рассказывал о себе и своем опыте. Как и сам Фабрициус, Норд «не привык к долгим размышлениям». Оба были жаждущими действия радикалами. Оба направлялись в Финляндию. 71
Пока за окном проносились однообразные виды, начал разворачиваться и душевный пейзаж зарождающегося финского фашизма. Его ядром внутри белой Финляндии не позднее чем в результате гражданской войны и ее последствий стала белоснежная Финляндия, члены которой занимали самую непримиримую позицию по вопросам, разделявшим молодое государство, таким как форма правления, амнистия красных пленных и заключение мира с Советской Россией. Через разочарования из этой группы выкристаллизовались такие ключевые фашистские фигуры будущей черной Финляндии, как Йохан Фабрициус.
Описание осенней поездки на поезде, которое Фабрициус написал спустя двадцать лет после событий, дало возможность поразмыслить об основных структурах собственного мировоззрения. В своем романе Фабрициус использовал офицерское купе как сцену, на которую он выводил различных персонажей, чтобы каждый изложил свою интерпретацию причин, приведших к русской революции. Пожилой профессор, входящий в купе, представлял в понимании Фабрициуса сторонников уходящей в прошлое старой власти. «Нашей России конец», — восклицает профессор:
Господи Боже! Где теперь наши идеалы, наша вера в добро, наши детские мечты? Пропали, пропали! Только осколки и лохмотья, непроглядная тьма вокруг нас! Неугасимая ненависть, жажда убийства, свинство, грязь!72
Речь профессора была приговором Фабрициуса интеллигентской элите, которую он считал расслабленной и слишком любящей комфорт, и ее отношению к армии. Сражавшийся на фронте офицерский корпус не получил необходимого признания и поддержки от не-большевистских сил в тылу, пока не стало слишком поздно. Слишком поздно и профессор заметил, «сколько самоотверженности, сколько мужественной силы и чувства долга проявил этот презираемый офицерский корпус».
Фабрициус сделал профессора толстовцем. Христианско-анархическая идеология Толстого была для Фабрициуса примером ереси, ослабляющей своим мечтательным ультрагуманизмом, которая подтачивала единство империи. И профессор с детства
научился презирать и высмеивать все военное… Мы, интеллигенция, как мы себя так гордо называли… мы считали наших офицеров почти ровней жандармам. И мы, университетские преподаватели, видели, как среди студенческой молодежи росло презрение и — я должен это признать — ненависть к нашему офицерскому корпусу, и мы не восставали против этого.73
Униженная интеллигенция вынуждена совершать ставшие бесполезными покаянные упражнения. Псов революции спустила с цепи, в свою очередь, глупая, сведенная с ума либеральной идеологией просвещения молодежь. Студенты, по словам профессора,
всегда шли впереди, когда работали на благо революции. В их среде родилась сама идея революции! Улучшение общества, стремление вперед, либерализм! Пустые слова! Когда теперь думаешь, что три долгих года на фронте сражалась группа, которую презирали, поносили, — что эта группа сражалась за нас, — в то время как наши буйные головы вели агитацию в тылу… Боже мой! Это Немезида! 74
Немезида, богиня мести, настигла самодовольную интеллигенцию России, но Фабрициусу больше нечего предложить, кроме сухого злорадства. Надежда России больше не в возвращении к прежней системе, и империя больше не заслуживает верности своих нерусских подданных, таких как Фабрициус. Сам Фабрициус уже успел отречься от дела старой России и примкнуть к восходящей звезде независимости Финляндии. Капитан Норд хочет только попасть в Финляндию. 75
Несмотря на раннюю и страстную приверженность Фабрициуса делу независимости Финляндии, проведенное в России детство, родня матери и карьера отца на службе у царя заставляли его отстраненно относиться к идеологии русофобии, обострившейся в Финляндии в ходе борьбы за независимость. Как и для многих других его сословных товарищей с похожим прошлым, императорская Россия означала для Фабрициуса трагически хрупкий, немного устаревший, но в своей основе положительный утраченный мир.
Русские родственники матери были «высокими, светловолосыми, голубоглазыми, по форме черепа как шведы или англичане… в общем, симпатичными, благонамеренными, добродушными, остроумными и дружелюбными людьми». Столкновения с ними возникали только тогда, когда разговор переходил к политике империи в отношении Финляндии; родственники матери без исключения считали, что царь, разумеется, может поступать с Финляндией как ему угодно. Однако ответ, которому отец научил сына, был терпеливым ожиданием, а не активизмом. «Новый день все может изменить», — таков был девиз, заимствованный отцом из стихотворения Рунеберга «Приветствие прапорщика», который Фабрициус и сам позже повторял. 76
Для Фабрициуса русские солдаты 1914 года были спасителями Европы. Финляндии и ее существованию угрожали не обычные русские, фронтовики — «простые русские мужики», от которых, может быть, часто и разило водкой, но которые в своей основе не были злыми. Угроза, по сути, не олицетворялась даже в царе, который произвел на Фабрициуса весьма скромное впечатление. Только среди русских офицеров-товарищей в тылу, по словам Фабрициуса, стали находиться «бобриковцы», и среди них «я чувствовал себя все более одиноким». За угрозой в конечном счете стояло «правительство России, состоящее из клики русских националистов». 77
Однако только революция превратила Россию во что-то совершенно чуждое и злое. Революция подняла на поверхность именно те силы, которые, как всегда и подозревала элита, таились под внешне спокойной оболочкой народа. Простой народ был на своем месте не просто так, так как теперь, когда он поднялся, раскрылась его истинная сущность. Она смогла вырваться на свободу, как только были сломаны общественные устои; либеральной интеллигенции с ее причудами о демократии и равенстве досталась лишь роль полезного идиота.
Повестка контрпросвещения стала очевидной: вмешательство в общество на основе новых учений фатально безрассудно. Успешную либеральную революцию совершить невозможно, потому что она ведет к усилению черни и к тому, что подавленная грязь выплескивается на поверхность. С точки зрения Фабрициуса, либерализм повторял одну и ту же ошибку от Французской революции до России 1917 года и Германии 1918 года, ничему не научившись. И, как, по-видимому, заключил Фабрициус, какими бы жестокими ни были уроки революций, их почти сразу же забывали. Поэтому Фабрициус стал одним из тех, «кто не забывает», и чьим долгом было помнить об опасности большевизма, прежде чем он вырвется на свободу в Европе в результате интриг упивающихся собственным остроумием интеллектуалов и корыстных политиков.
Буржуазные либералы в тылу спилили сук, на котором сами сидели, и гораздо более грубые силы смогли выйти на сцену. А за спиной революции таился еще более ужасный настоящий враг — большевизм. Он был полной противоположностью ценностного мира фронтовых офицеров и всей цивилизации, как сказал капитан Норд:
Это новое учение — коммунизм или большевизм, или как его там ни назови, — не является ли оно совершенно чуждым западным принципам… Красные проповедуют, что нарушенное обещание — это заслуга, что на данное слово не нужно обращать никакого внимания. Традиции, принципы цивилизации, чувство долга — в том смысле, в котором мы понимаем эти понятия, — для большевиков ничего не значат… В виде лжи, братоубийства и гражданской войны эта мировая угроза подкрадывается к нам! Мы, фронтовики, не учились воевать такими методами! 78
Чужой народ
Поезд Фабрициуса уже стучал по рельсам на участке между Псковом и Петербургом, когда на сцене купе наконец появился настоящий враг, мятежный солдат, истинный большевик. Его внешность была отражением первобытности, жестокости и зверства его внутренней жизни и политических взглядов:
[Большевик] был крупным, сильным мужчиной. Он выглядел свирепо, его красноватые глаза сверкали ненавистью, а большой красный шрам, тянувшийся от левого уголка рта через всю щеку, придавал его лицу злобное и гневное выражение. На его шинели виднелась запекшаяся кровь, а руки были неописуемо грязными. Хриплым, грубым голосом он грубо и требовательно приказал офицерам посторониться.79
Большевик — это изменившаяся до неузнаваемости часть русского народа, чуждая сила, за которой для Фабрициуса и его товарищей-фронтовиков проглядывает мировое еврейство. Его представителя также встречают в романе, когда капитан Норд собирается перебраться из Петербурга в Финляндию. Его спутник по поезду, английский капитан Уэстон, выполняет секретное поручение своего правительства и летит на самолете в Выборг. Когда самолет приземляется, к нему подходит человек,
“на котором была русская военная гимнастерка без погон. «Комиссар Экерштейн», — представился он. Он был, очевидно, евреем, но выдавал себя за русского рабочего и рассказывал, что был политическим заключенным и оказал большие услуги русскому революционному движению.” 80
Льстивый и хитрый еврей-комиссар производит на Уэстона «крайне неприятное впечатление». В созданном Фабрициусом еврейском персонаже сочетаются коварство, жестокость и моральная безразличность. Экерштейн рассказывает,
“прямо упиваясь, как возбужденные солдаты убили нескольких офицеров в Выборге. Их с крепостного моста живыми бросили в воду, а потом солдаты стреляли по ним: «Вода была совсем красной от крови… и их головы всплывали на поверхность, как поплавки… вот это было весело».” 81
Экерштейн представляет собой сочетание самых распространенных и привычных мотивов русского антисемитизма. Фабрициус изображает еврейство как настоящую, скрытую движущую силу большевизма. В этом не было ничего нового. Эта вера была знакома любому, кто вырос в России или Европе XIX века. Теория заговора о связи еврейства с социализмом и коммунизмом повторялась снова и снова, так что в мировоззрении того времени она стала общепринятым фактом.
Со временем антисемитизм Фабрициуса только обострился и приобрел все более параноидальные оттенки. К этому добавились и фантазии об участии масонов во всемирном заговоре с целью уничтожения западной цивилизации. Письмо писателю Бертелю Грипенбергу, составленное в октябре 1940 года, Фабрициус датировал «вторым годом войны, которую евреи и масоны начали в Европе для уничтожения гоев [неевреев]».82
Подобный антисемитизм восприняли многие представители военного поколения Фабрициуса. Неясно, насколько на егерей повлиял широко распространенный в Германии и становившийся все более яростным к концу войны антисемитизм. По мнению Теодора Фрича, его «Рейхсхаммербунда*» и других немецких радикальных националистов и пангерманистов, на фронтах мировой войны Германии в любом случае противостоял международный еврейский заговор. Битва велась между арийской и еврейской расами, между немецким «героизмом» и «упадочным англо-американским мамонизмом». Утверждалось, что немецкие евреи уклоняются от военной службы, одновременно подрывая тыл распространением пропаганды, требующей мира без аннексий.83
* Рейхсхаммербунд (нем. Reichshammerbund, досл. «Союз Имперского Молота») — это ультраправая, антисемитская и националистическая организация, действовавшая в Германии в начале XX века, особенно в период до Первой мировой войны и во время неё.
Антисемитская агитация не осталась без последствий. В октябре 1916 года военное министерство Пруссии провело перепись евреев, служащих в вооруженных силах. Результаты были объявлены секретными, что подогрело слухи о том, что они были «катастрофическими» для евреев. Егеря и другие, находившиеся в сфере влияния немецкой армии, вряд ли могли избежать этих культурных влияний, особенно сильных в вооруженных силах, на что указывают и повторяющиеся упоминания еврейства в военных мемуарах Арне Сомерсало. Раненый в оборонительных боях в Карпатах ранней весной 1915 года Сомерсало описывал свой военный госпиталь, где раненые голодали, а еврейский интендант госпиталя «на широкую ногу жил в Будапеште».84
Антисемитизм среди фронтовиков был связан с общей ненавистью к тылу. Это иллюстрирует рассказ Сомерсало о его поездке на поправку в Германию весной 1915 года. Санитарный поезд, в котором он ехал, остановился в Будапеште напротив курсировавшего между Берлином и Стамбулом Восточного экспресса:
Мой вагон остановился напротив блистающего во всем своем великолепии вагона-ресторана. Со своей койки я видел по-княжески накрытый стол для ужина. Жаркое, фрукты, шампанское… Из сверкающих бокалов жемчужинами взлетали в воздух капли… За столом сидели два толстых еврея, куря толстые сигары. Мы на ужин пожевали корку хлеба и запили кружкой жидкого супа.85
Сопоставление с реальностью австрийского санитарного поезда было нарочито жестоким. Евреи стали синонимом всех тыловых спекулянтов и наживающихся на войне. И если этого было недостаточно, они в то же время способствовали распространению чумы большевизма:
Бессильная ненависть к этому классу людей вскипела в моем сердце — к классу, который посреди мук, страданий и потоков крови целого мира торговал, спекулируя на войне и на горах человеческих тел. В Карпатах кровь шестисот тысяч павших взывала к небу… Удивительно ли, что простой солдат в этих негодяях видел всю интеллигенцию, представителей высшего класса, прислушиваясь к тем, кто шептал, что война — это всего лишь совместная капиталистическая затея. Так мы не победим. 86
Финские фронтовики, пережившие мировую войну и последующие военные годы в России, Германии или Польше, неизбежно вступали в контакт с местными версиями антисемитизма. Одним из них был Каарло Курко, который в 1920 году добровольцем участвовал в войне между Польшей и Советской Россией и написал о своем опыте мемуары «С поляками против большевиков». Курко впитал в себя основные догмы польского антисемитизма, которые усиливались преобладающим военным положением и присутствием культурно чуждого еврейского населения в сельской местности восточной Польши:
Особенно бросалось в глаза огромное количество евреев в деревнях и городах. В своих грязных черных кафтанах и такого же цвета ермолках они слонялись повсюду, вынюхивая, выслеживая и торгуя. Именно они были лучшими шпионами и помощниками большевиков в этих краях. Они воображали, что смогут править огромной Российской империей, гордясь своим родством с Троцким и другими еврейскими народными комиссарами.87
Большевики убивали, насиловали и грабили, и повсюду «за нашей спиной бунтовали крестьяне под предводительством евреев». Таким образом, в произведении Курко уже присутствует центральная тема западного антисемитизма межвоенного периода: евреи повсюду образуют всемирный заговор, который в конечном итоге стоит и за большевизмом, и за советской властью.88
Литературные попутчики
Утром 21 мая 1918 года некий портовый буксир отчалил от пристани на Торговой площади в Хельсинки. Его пунктом назначения был близлежащий остров Сантахамина. На борт поднялась пестрая публика: вооруженные солдаты и гражданские лица, взятые в ходе захвата Хельсинки красные пленные и их охранники из белой армии. Самым известным из пленных был писатель Алгот Унтола, работавший в Хельсинки редактором газеты социал-демократической партии «Тюёмиес», более известный под псевдонимами Ирмари Рантамала и Майю Лассила.
Кроме пленных и охранников, на борт поднялись несколько человек, у которых не было определенной задачи в этой поездке. Все они, Эйно Райло, Кюёсти Вилкуна, Тойво Тарвас и Тойво Т. Кайла, также были писателями. Они знали, за каким событием они отправились наблюдать. Когда буксир прибудет в Сантахамину, перевозимых на его палубе пленных должны были расстрелять.
Радикальная черная Финляндия черпала свою силу и влияние из более широкой поддержки белой Финляндии; успех финского фашизма зависел от того, насколько эффективно черное ядро сможет привлечь на свою сторону белые массы. Решающую роль стали играть финские попутчики фашизма, которые открыто не причисляли себя к радикалам, но чье мышление по существу не отличалось от их идей. Попутчики были белыми влиятельными лицами, сочувствующими и лидерами мнений. Они присутствовали там, где появлялась и черная Финляндия: на открытии памятников, в шюцкорах, на возложении венков, в обществах, на страницах газет. Весной 1918 года они присутствовали на незаконных казнях.
О жестокой атмосфере гражданской войны в Финляндии весной 1918 года говорит практически всё тот факт, что господа, представляющие литературные круги, отправились в путь, чтобы засвидетельствовать убийство своего коллеги. Эйно Райло был также издателем Унтолы, так как возглавляемое им издательство «Кирья» опубликовало рассказы Унтолы «Мариассе Яппинен», «Соперники» и «Ийвана». Сейчас это обстоятельство не имело значения. Для Райло Унтола был одним из худших «отравителей газет», одним из тех членов социалистической интеллигенции, которые несли прямую ответственность за введение в заблуждение финского рабочего и который «в этой стране вложил оружие в руки красногвардейцев и отправил их на убийства».89
На «казнь», таким образом, отправились, охваченные праведным гневом. Поэтому, возможно, неудивительно, что первая жертва погибла еще до того, как они добрались до Сантахамины. Унтола прыгнул — по другим показаниям, его бросили — за борт в море. Барахтающегося в холодной морской воде писателя застрелили. Остальных приговоренных к казни доставили в Сантахамину и расстреляли, как и было запланировано.90
Позже в написанной им биографии Кюёсти Вилкуны, как и в других своих произведениях, Райло не упоминал этот эпизод. Он должен был остаться частью необходимых, но невысказанных вслух деяний мифологии освободительной войны; почетной, но ненаписанной истории. «Теперь небольшой разрез в собственную плоть, прочь нарыв из тела, прочь рак», — так поэт Юхани Сильо во время войны выразил то же чувство болезненного, но, по его мнению, абсолютно необходимого братоубийства.91
В творчестве Райло образ весеннего утра родины будет последовательно и прямолинейно идеализированным. Хелли из его главного трехтомного романа «Дом у реки», содержащего автобиографические элементы, как и сам Райло, наблюдала за парадом победы белой армии в Хельсинки всего за несколько дней до кровавого утра в Сантахамине;
Марш Армии Освобождения все продолжается; флаги развеваются, музыка гремит, ритмичные шаги грохочут. Загорелые от весеннего ветра, жилистые, зорко глядящие мужчины; голубоглазые, с открытым взглядом юноши; седобородые старики, помолодевшие весной родины; и более того: невидимая армия рядом с ними, череда поколений с самого утра истории, все те бесчисленные воины, чьи сердца когда-то расширило святое чувство свободы, кто ради нее натягивал лук, размахивал боевым топором и мечом, и пал. Вся история родины, ее безграничные страдания и скромные победы, ее упорное стремление однажды, став независимым народом, выполнить свою миссию в свете идеалов на светлом фронте, ее герои, мученики и изгнанники — все они присутствовали в этот высокий момент победы и в утро великого будущего.92
Эйно Райло, родившийся в 1884 году в Тайвалкоски, никогда не состоял в фашистских организациях. Он публично не поддерживал ни отечественный, ни зарубежный фашизм. Лейтмотивом его творчества был культ родины. Его вечным краеугольным камнем была финская идентичность, которая для Райло означала мистическую связь с историей как часть вневременной нации, понимаемой как живое существо. Нацию, в свою очередь, во все времена определяло неустанное стремление ее лучших представителей к свободе и самоопределению — приверженность этим высоким целям решала для каждого индивида право на членство в нации. Другое измерение нации для Райло заключалось в христианстве, особенно в народном благочестии, представленном движением пробуждения, которое означало передаваемое из поколения в поколение желание нравственного, духовного и душевного подъема, несмотря на материальную бедность.
На основании идейной основы его текстов, Райло легко определить как националиста. Также его путь к радикализму можно прямо прочитать на страницах его произведений. Подобно своему другу Кюёсти Вилкуне, Райло пошел по пути, ставшему знакомым многим буржуазным консерваторам, в ряды радикалов, когда конституционный путь, представляемый старшим поколением, казалось, не приносил решения. Подобно тем слева, кто восхищался и понимал советский коммунизм, Райло был примером влиятельного попутчика финского фашизма, типичным националистическим интеллектуалом эпохи фашизма. Его писательская карьера сопоставима с другими западными попутчиками, как американский писатель и художник Уиндем Льюис, шедший в ногу с немецким национал-социализмом. Льюис никогда
не выступал как фашистский интеллектуал, но был хорошим примером попутчика, модернистского интеллектуала, которого привлекала жизненная сила, энергия и власть антиматериалистической, антибуржуазной и антимарксистской революционности национал-социализма.93
Через Райло, таким образом, можно выявить важные черты молчаливой группы поддержки финского фашизма; тех, у кого не нашлось бы много возражений в случае фашистского переворота, кто, очевидно, без труда приспособился бы к новому порядку и разделял бы его цели.
Поддержка и одобрение таких молчаливых партнеров, как Райло, были необходимы для деятельности белых и черных активистов — как штрейкбрехеров, патриотических клубов Виитасаари, кружков внутри шюцкора, которые были белее самих белых, так и Союза фронтовиков Освободительной войны. Одобрение таких попутчиков, как Райло, принадлежавших к самой уважаемой верхушке интеллигенции, придало силу внепарламентскому давлению и прямому террору движения Лапуа. Они все были готовы во имя высшего блага одобрить похищения, теракты и принудительное кормление коммунистов, объявивших голодовку в Таммисаари. Они скорбели о провале мятежа в Мянтсяля, были расстроены законом о рубашках и попыткой запрета IKL. Осенью 1944 года они были в ужасе, боясь, что созданные ими же самими угрозы станут реальностью.
Детство Райло провел в Суомуссалми, пока не уехал в Хельсинкский университет изучать историю, финский язык и литературоведение. К 1917 году борьба за независимость полностью захватила его. В 1917 году он участвовал в создании газеты «Ууси Пяйвя» («Новый день»), придерживавшейся линии независимости, и писал для нее фельетоны на общественные и политические темы под псевдонимом Сисси.
Потрясенный ноябрьской всеобщей забастовкой, в конце 1917 года он стремительно написал под псевдонимом Похьялайнен (Житель Похьянмаа) памфлет «Родина рабочего». В нем Райло критиковал руководство социал-демократов и взывал к патриотизму финского рабочего и финскому национализму, чтобы избежать угрозы кровопролития. «Глубочайшая степень унижения: русская винтовка в руках финского рабочего», — так Райло озаглавил одну из глав. Вопрос был не в том, что гражданская война разразилась как ошеломляющая неожиданность, и реакции на красный мятеж были такими жестокими из-за растерянности. Наоборот, такие влиятельные лица, как Райло, месяцами могли наблюдать за эскалацией, в которой скрытую опасность все более открытого применения насилия они были более чем способны оценить и предвидеть. Насилие 1918 года было ожесточено не неожиданностью войны, а ее предсказуемостью, что заставляло предательство проигравших казаться еще более расчетливым и безразличным. 94
В качестве решения проблемы утраты народом национального чувства Райло рекомендовал буржуазной интеллигенции взять рабочий класс под свою интеллектуальную опеку: «Он [финский рабочий] в ее [прогрессивной буржуазии] обществе привык бы мыслить по-фински, а не интернационально, патриотично, а не большевистски». 95
Ему пришлось разочароваться. Во время гражданской войны Райло продолжал подпольную издательскую деятельность, редактируя информационный листок белых «Свободные слова», который размножался и тайно распространялся. Глубину своего морального возмущения Райло выразил в фельетоне Сисси, опубликованном в июле 1918 года после окончания гражданской войны. В нем он описал Хельсинки 1917 года как фон для вскоре начавшейся гражданской войны. Русские матросы, поддающиеся им дурные женщины и «коричневые и волосатые шайки» для агитаторов типа Жана Больдта составили «социально слабоумную толпу, поддающуюся любому влиянию, — в чьих мозгах сначала созрел урожай крови и ужаса, который затем пожали в Финляндии». Опыт национального унижения среди белых сочетался с чувствами сексуального унижения и угрозы. «Сыны матушки-России» на танцах увлекали в свои объятия «финских служанок», которые «блаженно раскисали на груди у русских». 96
Опыт гражданской войны как для Райло, так и для многих других означал радикализацию, пошатнувшиеся устои и принятие ранее казавшихся невозможными методов действий. Летом 1918 года, описывая свою реакцию на всплеск безнравственности, Райло поэтому потерял всякое чувство меры:
Что это был за город, где год назад [в 1917] происходило такое и многое худшее? Неужели это действительно был Хельсинки? Приятно теперь знать, что этот позор и унижение удалось смыть русской кровью. Приветик снова! 97
Позор, возможно, и можно было смыть кровью, но разочарование нельзя было удержать на расстоянии теми же средствами. 16 мая на параде победы белой армии в Хельсинки Райло еще приветствовал егерей восторженной статьей: «Да произрастет под вашими штурмовыми касками истинный римский дух, дабы вы основали среди нас золотой легион, на вечную погибель трусости и малодушию». В вопросе о форме правления Райло поддерживал «идею национальной государственной власти на основе монархической идеи», что содержало явное стремление к авторитарной системе. Противниками были те, кто хотел сделать из Финляндии «какую-то “республику жестянщиков”» и «держать нашу страну в рабстве фальшивой демократии». 98
Райло и Вилкуна, как и многие другие, были разочарованы революцией в Германии осенью 1918 года. У страстного монархиста Вилкуны это вызвало очередной период меланхолии. Даже после падения Гогенцоллернов Вилкуна держал на стене своей комнаты рядом портреты Вильгельма II и Маннергейма. Райло и Вилкуна оба еще искали в Олонецком походе исправления приговора истории. Результатом были лишь новые разочарования. 99
То, что было завоевано в освободительной войне, было потеряно в мирное время. Для Райло эпоха позорного Тартуского мира, однако, оказалась вполне сносной. Его научная карьера пошла в гору в середине 1920-х годов, когда Райло опубликовал свою диссертацию, давно вынашиваемое им исследование английского готического романа. В 1928 году он стал доцентом истории литературы Хельсинкского университета. Он также претендовал на должность профессора эстетики и современной литературы в Хельсинкском университете, но занял третье место после Рафаэля Коскимиеса и В. А. Коскенниеми. Звание профессора было присвоено Райло в 1939 году. 100
Небесная родина
В главном произведении Эйно Райло, трехтомном романе «Дом у реки», вышедшем в 1937 году, содержится много автобиографического материала. В тексте своего романа Райло также ссылается на этапы своей жизни: на памфлет «Родина рабочего», опубликованный в атмосфере после ноябрьской забастовки, и на основанную в 1917 году газету «Ууси Пяйвя». По основному сюжету произведение представляет собой беллетристическую новейшую историю независимой Финляндии — тему, которую Райло постоянно поднимал в своем творчестве.
Персонажи романа позволяют рассмотреть борьбу за независимость, кульминацией которой стала освободительная война, с разных сторон: Херманни — выходец из рабочей семьи, который в Хельсинки подвергается влиянию идей социализма, Аари — его брат, который в итоге сражается в рядах белой армии. Общим фоном для персонажей служит родной край, маршрут Хюрунсалми по реке Оулуйоки и пронизанный движением пробуждения местный мир, основные ценности которого со временем оказываются неизбежно сильнее «западных этических [и] парламентско-демократических принципов» хельсинкских социалистических агитаторов. 101
Христианство и белая идея для Райло — две стороны одной медали; христианская символика и образность национализма едины. Патриотизм — высшая из добродетелей, а чистота, жизненная сила и нравственность — ее благословения: «Родина была высшей идеей и верой народа, тем идеалом, к которому вел путь человечества. Этот путь нельзя было позволить заблокировать, его следовало защищать как почетному караулу до самой смерти». 102
Поле битвы — это не только маленькая Финляндия, но и космическая арена, где решается судьба человечества. Каждая нация должна сама выиграть свою битву за родину против сил ада, кристаллизованных в большевизме. Родина — это царство небесное на земле, а небо — окончательная родина человечества; Иисус — националистический герой:
В его душе внезапно открылось видение, охватившее все его существо: тьма, и как последний проблеск чего-то яркого оставшийся горизонт, и на его фоне вырисовывающийся крест. К нему был пригвожден человек, который также страдал за отечество, то есть за то, чтобы путь туда оставался открытым для несчастного человеческого рода. 103
Когда борьба ведется не между конкурирующими политическими доктринами, а непосредственно между силами спасения и проклятия, насилие во имя отечества автоматически освящается. Военный пастор из романа, Каарло, носит оружие «не просто для украшения», а, совершив полевые богослужения, молитвы и похороны, присоединился к своим землякам из Перяпохьола в цепи и дал дьяволу «практическим образом по зубам». Начинающаяся гражданская война для Райло — это очистительное, необходимое испытание, через которое только и возможно лучшее завтра,
не только для достижения независимости и воспитания духа жертвенности и готовности к смерти, но и для искоренения всего низкого, эгоистичного, подлого, коварного, предательского, жестокого как в рабочих, так и в буржуа. Только через Освободительную войну мы возродимся как новая нация и выжжем каленым железом гнойную язву красных и остановим болезнь, которая для народов опаснее любой чумы. Сейчас, как никогда, настал час призвания финского народа. 104
Финская коза ностра
Эйно Райло был не одинок в своих видениях. Для усиления очищающего эффекта войны весной 1918 года не только в Сантахамине с энтузиазмом прижигали каленым железом «гнойные язвы» нации. Об этих событиях в 1930-е годы рассказал составителю воспоминаний об Освободительной войне Союза фронтовиков Освободительной войны редактор газеты «Фронтовик» Брор Векстрём. Он, будучи 22-летним юношей, служил в гражданскую войну в Летучем кавалерийском отряде Хяме:
Из Писпалы нам пришлось отправиться в Сиуро, где расстреляли 15-16 красногвардейцев из Турку. Из Тампере нас командировали в Тойялу, где пришлось приводить в исполнение различные смертные приговоры, вынесенные военным судом. Из Тойялы нам пришлось ездить верхом в Форссу, Сомеро и Юпяйя, где мы выискивали скрывающихся красногвардейцев. 105
Векстрём рассказывал не о судах по государственным преступлениям, заседавших после гражданской войны, а о предшествовавшей им незаконной чистке, которую позже назвали белым террором. Об этом участвовавшие в чистке белые обычно не говорили ни слова после весны 1918 года. Еще меньше они говорили о том, что чистка происходила под руководством белой армии, обдуманно и систематически. За этим стояла организация, созданная Мартти Пихкала, который работал в штабе белой армии, и некоторыми другими.
По меньшей мере сотни финских белых весной 1918 года имели опыт пребывания на краю гравийных карьеров; только в Летучих кавалерийских отрядах Хяме, Яала и Саво-Карелии, собранных для ведения жестокой разведки во время войны и последующих чисток, служило в общей сложности полторы сотни человек. Это были молодые люди, самые младшие — школьники 12-15 лет. Добровольное стремление к приключениям в течение военной зимы превратилось в выполнение заданий по чистке по приказу. Так оно и было, могли бы констатировать современники; в праздничных речах и публичных писаниях эта реальность никогда не всплывала, потому что это было бы слишком больно. 106
Миика Сийронен, вероятно, стал первым историком, приблизившимся к истине при рассмотрении значения белого террора как объединяющего фактора для белых. Если егерское движение было ключевым опытом для активистов независимости, то чистки, последовавшие за гражданской войной, стали центральным опытом для дальнейшего мышления и деятельности белых радикалов межвоенного периода. 107
В чистках в качестве охотников на «красных», следователей, охранников и палачей участвовали тысячи белых. Убийство около десяти тысяч безоружных красных и отправка почти 90 000 в лагеря для военнопленных вряд ли удалось бы осуществить совсем небольшим числом членов охранных корпусов. Чистки были грандиозным процессом, который затронул все коммуны* Финляндии в 1918 году — даже те, где война не велась. Через них все население Финляндии было разделено на тех, кого следует убить, ненадежных и тех, кто молчал.
* коммуна – kunta – территориальная единица в Финляндии – А.К.
Чистки, проводившиеся весной 1918 года на территориях, занятых охранными корпусами, породили среди белых свой собственный круг, финскую коза ностру, союз общего молчания. Ключевые участники чисток знали друг друга и знали о действиях друг друга, но об организациях, ответственности и деяниях молчали, потому что эта деятельность в конечном итоге была самосудом и беззаконием победителя. 108
На местном уровне чистки могли пронизывать всю белую элиту: директор банка молчал о своей роли судьи в полевом суде, учитель народной школы молчал о своей роли судебного писаря, видный землевладелец и церковный староста, управляющий магазином и управляющий лесопилкой молчали о своих ролях членов полевого суда. У всех у них весной 1918 года внезапно появилась власть без лишних проволочек приговаривать предателей родины и преступников к смерти. Часто осужденными были жители того же прихода, сбившиеся на путь мятежа.Власть над жизнью и смертью использовалась беззаботно, особенно в небольших местных общинах. По сравнению с городскими полевыми судами, в сельской местности, где судьи почти всегда знали осужденных, было расстреляно в четыре раза больше мятежников в процентном соотношении.109
Молчание было национальной реакцией самосохранения в послевоенной Финляндии, вынужденной мерой, без которой никакое национальное сплочение не произошло бы и позже. Белый нарратив об Освободительной войне умалчивал о терроре так долго, как только это было возможно. Когда произошедшее нужно было как-то объяснить, был создан миф, согласно которому акты насилия были случайными, делом рук отдельных исключительных личностей, а не прямым следствием войны и действий войск. Несколько судебных процессов, которыми пресса смаковала в начале 1920-х годов, казалось, подтверждали эту картину. В действительности эти Юсси Руммы, Нюкянены и Сипполы представляли ту же самую власть, которую использовали сотни других весной 1918 года. 110
В более поздних националистических радикалах видна тень 1918 года; согласно одному исследованию, например, в районе Лаппеенранты из примерно пятидесяти человек, участвовавших в Лапуаском движении и крестьянском марше, все были либо ветеранами Освободительной войны, либо современниками, пережившими войну вблизи. Руководство радикального движения в городе находилось в руках представителей деловых кругов, высшего чиновничества, учителей и лиц свободных профессий. Почти все были ключевыми фигурами местных охранных корпусов или отличились на штабных должностях. Треть национальных радикалов района Лаппеенранты были членами местного отделения «Суомен Лукко»; седьмая часть — местными активистами Союза фронтовиков Освободительной войны. Столько же из них в 1918 году лично принимали ключевое участие в деятельности незаконных полевых судов и чистках, проводившихся в городских лагерях для военнопленных. 111 Эти люди пережили невероятные вещи. В первые годы XX века они учились в гимназиях или университете, видели с близкого расстояния борьбу за законность с увольнениями и ссылками чиновников. Им пришлось выбирать свою сторону в этой буре эмоций. Возможности, открытые Первой мировой войной, рухнули под гнетом неопределенности военных лет, опыта робости старших поколений и давления со стороны русских. Небольшой круг молодых мужчин и женщин с академическим образованием отважился на авантюру егерского движения и открыл возможности для освобождения Финляндии.
Большевики и их государственный переворот сначала стали возможностью, а затем угрозой. Последовавшая за распадом метрополии-России Освободительная война в Финляндии стала суровым опытом, оставившим странный привкус. Самые молодые ребята, зачищавшие в летучих отрядах захваченные в гражданской войне территории, учились в младших классах лицея, едва пройдя конфирмацию. Их использовали для охоты на людей и для приведения в исполнение смертных приговоров. 112
Вернувшись с войны, они обнаружили, что победа белых в войне на самом деле мало что решила. Восстание Красной гвардии было подавлено, но многие бывшие «красные» уже поздним летом 1918 года находились на свободе, и считалось, что они планируют новый мятеж. Угроза со стороны Советской России в Прибалтике и за границами Финляндии, казалось, росла. Политиканство продолжалось, те же самые неуверенные и напуганные егерским движением политики продолжали болтать в стране, где без «Освободительной войны», то есть чисток, дела обстояли бы иначе. Теперь лишь благодаря кровавой жертве воинов-освободителей ужаснейшая катастрофа была на время предотвращена, по словам Эйно Райло: «Вместо кровавых красных тряпок реяли белые знамена свободы, веры и отечества, и вместо международного рабского рева в воздухе звенели зажигательные финско-национальные мелодии». Но как долго, прежде чем белые знамена снова придется защищать кровью? 113
Радикализовавшиеся и продолжающие радикализироваться националистически настроенные мужчины и женщины видели в таких речах не политическую интерпретацию событий своей группой, а абсолютную, единственную истину. Они не понимали, что являются маргиналами в том широком белом фронте, который победил в гражданской войне. Из всех белых они пережили больше всего, были наиболее глубоко травмированы, и многие из них были готовы пойти дальше, чем другие. Для них демократическое принятие решений в парламенте и муниципальных советах было промедлением и учетом мнений не тех людей. Власть денег была властью пресыщенных и отвратительных людей, низший класс — пугающей массой, готовой в любой момент под влиянием внешнего подстрекательства грабить и убивать. Они были революционерами и оторванными от послевоенной действительности фанатиками, которые не понимали, что война закончилась. Таких, как они, молодых людей в Европе после Первой мировой войны были сотни тысяч.114
Это были люди, пережившие гражданскую войну, у которых все было впереди. Большинство из них видело свою надежду в организации охранных корпусов, потому что там царил — и его было легко создать — правильный дух. Эта растущая во многих направлениях ненависть была общеевропейской и лишь ждала подходящего выхода. В отличие от немецких добровольческих корпусов (фрайкоров), послуживших питательной средой для национал-социализма, и других европейских сестринских организаций, в финских охранных корпусах были и инакомыслящие белые. Без этого баланса между революцией и порядком роль охранных корпусов во внутренней политике в межвоенные десятилетия могла бы быть еще более непредсказуемой. 115
Битва заканчивается, война продолжается
В Виитасаари, который в конце 1910-х годов еще можно было с полным правом назвать дикой глушью центральной Финляндии, 8 июня 1918 года собралась группа руководителей охранных корпусов, сражавшихся в гражданской войне. Это был первый шаг к радикализации жителей Виитасаари. Виитасаари не был случайным местом для собрания охранных корпусов. Значение этого небольшого центральнофинского прихода в формировании финского национального радикализма поднимается почти до уровня такого центра, как Лапуа, уже неоднократно рассмотренного в литературе.116
Совещание руководителей охранных корпусов завершилось заявлением, в котором от охранных корпусов требовалось продолжать свою работу. Она и так шла полным ходом, так как по всей Финляндии охранные корпуса вели масштабный процесс предварительного следствия по делам государственных преступников с арестами, допросами и отправкой характеристик. Идеи о продолжении деятельности охранных корпусов и после окончания войны высказывались и в белой армии во время войны, но сейчас речь шла о большем, чем просто о последствиях мятежа:
работа еще не закончена. Наш безусловный долг — с нашей стороны беречь завоеванную свободу и заботиться о том, чтобы принесенные жертвы не были напрасны. Из организации охранных корпусов необходимо сделать всеобъемлющий орган, охватывающий всю страну, корни которого лежат в созидательных, патриотических и моральных силах — [охранные корпуса] должны — и впредь черпать свою жизненную силу из свободных, стремящихся к моральным целям граждан, которые составляют белый народ. 117
В охранных корпусах — а также в основанной в 1920 году наряду с ними организации «Лотта Свярд» — видели силу, которая обеспечит победу, достигнутую в «Освободительной войне». Внутренний и внешний большевизм требовали постоянного надзора, и большевизм с его последствиями, казалось, проявлялся повсюду. Когда «коммунизм» угрожал «нам», белой Финляндии, нельзя было цепляться за законность и формальности.
Белая Финляндия была сложной конструкцией. В нее входили не только «пушечный патриотизм», мелкобуржуазность церковных деревень и сельский консерватизм, но и желание держаться вместе с толпой. В принятии местных решений и в использовании местной власти дух белой Финляндии был силен. Члены охранных корпусов в муниципальных советах распределяли муниципальные деньги среди местных охранных корпусов, заботились о поддержании белой памяти на могилах героев и определяли социальные и культурные границы, например, делая выговоры или исключая из охранного корпуса членов, которые по ошибке забрели в рабочий дом. 118
Неудивительно, что именно вокруг охранных корпусов на рубеже 1920-х годов развернулась первая внутренняя борьба за власть в белой Финляндии. Находились ли охранные корпуса под политическим руководством правительства или своего собственного руководства, и, прежде всего, кем были их лидеры?
Целью ведущих активистов, таких как Элмо Э. Кайла, было создание из охранных корпусов организации, которая собрала бы всех финских мужчин в единый фронт для фатально ожидаемой, неизбежно предстоящей борьбы против Советской России. Большая часть правых, в свою очередь, видела в охранных корпусах орган, задачей которого был надзор за левыми политическими силами страны; также различные государственные системы — государственная полиция, военная разведка, губернаторы и полицейские власти — поощряли и принуждали местные охранные корпуса к этой работе. Работодатели, особенно в экспортной промышленности, в свою очередь, видели в охранных корпусах потенциальный резерв рабочей силы, из которого в случае забастовок можно было бы получить надежных и верных работников. У финских шведов-активистов и ветеранов Освободительной войны также было открытое желание использовать охранные корпуса в качестве органа политического давления в стране, по отношению к политике амнистии Стольберга среди них царило сильное недовольство. 119
Однако из активизма Освободительной войны и белой Финляндии охранных корпусов выкристаллизовывались фигуры, для которых простого отражения внутренней и внешней угрозы было уже недостаточно. В ноябре 1922 года председатель парламентского комитета по военным делам, депутат от Коалиционной партии Оскари Хейкинхеймо, ведущий активист охранных корпусов и один из тех, кто идеологически двигался от белого к черному, ответил в парламенте на инициативу левых о роспуске охранных корпусов образом, вызвавшим недоумение. Хейкинхеймо отверг утверждения коммунистической Социалистической рабочей партии Финляндии о том, что охранные корпуса терроризируют сельскую местность и преследуют рабочих, подобно ударным отрядам итальянских фашистов. По словам Хейкинхеймо, добровольная гражданская деятельность была вправе исправлять «исключительные ситуации» в общественной и парламентской жизни. Однако Хейкинхеймо не обиделся на сравнение с фашистами:
мы, члены охранных корпусов, вовсе не стыдимся этого сравнения, наоборот, мы с удовольствием и гордостью признаем, что являемся идейными соратниками итальянских фашистов.120
Интерпретация была ошеломляющей, хотя и основывалась непосредственно на собственном опыте таких активистов охранных корпусов, как Хейкинхеймо: зимой 1917-1918 годов они восстали против политического раскола и насильственно обеспечили власть правительства. Впоследствии они также поняли, что противостояли большевистской революции. Согласно мышлению Хейкинхеймо, отражение угрозы красной революции всеми возможными средствами как раз и было задачей охранных корпусов, и в Италии речь шла о том же.
Незадолго до этого чернорубашечники-фашисты под предводительством Бенито Муссолини совершили свой великий поход на Рим, свергли правительство и возвели Муссолини на пост премьер-министра. В Италии насилие и связанную с правыми полувоенную деятельность после окончания мировой войны подогревала быстро растущая власть Социалистической партии (Partito Socialista Italiano) и рабочих организаций: страх перед коммунистической революцией был инструментом, с помощью которого удалось склонить подавляющее большинство итальянцев на сторону фашистов. Вооруженные отряды (сквадри), состоявшие из ветеранов мировой войны, фашистов Муссолини и других радикальных групп, нападали на сильное и уверенное в своих силах рабочее движение и смогли его сокрушить, потому что со стороны правых не было никакого понимания или поддержки бастующим и профсоюзам, пугавшим красным переворотом.121
Однако в Финляндии речей Хейкинхеймо остерегались. Одной из причин был свежий в памяти конфликт вокруг охранных корпусов, в котором сам Хейкинхеймо играл значительную роль. Активисты охранных корпусов сначала летом 1919 года подняли охранные корпуса на политическую кампанию, целью которой было избрание Маннергейма президентом республики. Затея провалилась, когда социал-демократы и центристы проголосовали за К. Й. Стольберга. Ситуация обострилась до столкновения ранней весной 1921 года, когда активисты предприняли новую попытку и начали добиваться назначения Маннергейма главнокомандующим охранных корпусов. В итоге правительство разрешило ситуацию, назначив компромиссного главу охранных корпусов, о котором никто не мог сказать ничего плохого: Лаури Мальмберга с егерским прошлым.122
Однако эти две операции активистов в поддержку Маннергейма пошатнули веру умеренных в беспристрастность охранных корпусов. Когда к началу ноября 1921 года конфликт разрешился в пользу государственной власти, супруга президента республики, писательница Эстер Стольберг, записала в своем дневнике:
В наших внутренних делах счастливое разрешение вопроса об охранных корпусах было огромной победой. В этом деле интриговало шведское руководство вместе с Маннергеймом, и Бог его знает, что они на самом деле замышляли. В любом случае, независимость охранных корпусов под руководством Маннергейма. У него была бы своя армия, намного больше, чем государственная армия, и в любой момент они могли бы противостоять друг другу.123
Поэтому заявление Хейкинхеймо вызвало в Финляндии недоумение как в прессе, так и в самой организации охранных корпусов. Начальный путь охранных корпусов, несомненно, был постоянным колебанием между политическим влиянием, иногда даже давлением, поддержанием правопорядка в помощь полиции и поддержанием оборонного энтузиазма. Теперь охранные корпуса поспешили отвергнуть связи с фашизмом и отрицать политический характер охранных корпусов: итальянские фашисты были государственной партией, в то время как охранные корпуса — постоянной, подчиняющейся правительству военной организацией. 124
Отношение к фашистам стало для финского национального радикализма первым местом кризиса идентичности: фашисты были партией, совершившей государственный переворот с использованием террора. По сравнению с Италией, финские левые после гражданской войны были слабы, даже на последнем издыхании — и финские правые это знали. Это осознание заставило основную массу белой Финляндии быть осторожной: в охранных корпусах и в радикальных правых кругах развивались непредсказуемые и тревожные для демократии силы. 125
V
Под знаменами!
великое десятилетие национального радикализма
Фашизм заполняет всю Италию и переливается через ее границы. Во многих странах он порождает подобные независимые движения, в других же он образует связующее вещество, и там, где он встречает подобные национальные движения, он сливается с ними, укрепляя их.
Фашзм. Современная итальянская политика глазами инстранца.(1923)
В одном мгновении иногда кристаллизуется дух времени, его надежды, ожидания и политические страсти; в одно мгновение они могут и разрядиться. Такой момент пришелся на 11 февраля, после бычьих недель, зимой 1920 года. Вечер около пяти часов уже погрузился в морозно-синие сумерки, когда Юхо Койвукоски прибыл в дом Косола в церковной деревне Лапуа. 126
Там атмосфера была уже наэлектризована. Кроме хозяина дома, известного активиста и вербовщика егерей Вихтори Косола, на месте были торговец Юхо Хяннинен со станции Волтти, директор банка Эрнести Лескеля, учитель народной школы Арттури Лейнонен из Юлихярмя и фермер Оскари Лахденсуо. Комната была серой от табачного дыма. Покрасневшие лица господ выдавали, что, несмотря на сухой закон, просветляющие разум напитки были доступны и в окрестностях Лапуа. Койвукоски уже ждали, так как он ранее сообщил Лахденсуо сочную новость: Койвукоски напал на след скрывающегося где-то на острове Райппалуото лидера восстания Отто Вилле Куусинена.
Юхо Койвукоски был уже знаком Оскари Лахденсуо, так как оба были родом из Лапуа. До восстания Койвукоски работал на лесопилке и занимался всякой черной работой, никуда особо не продвигаясь. Говорили, что Койвукоски в бурную осень 1917 года успел поработать и на красных, но потом мудро перешел в ряды белых. На заключительных этапах Освободительной войны он «оказал неоценимые услуги», о которых победители Освободительной войны говорили меньше.
После войны Койвукоски удивил своих братьев по оружию, появившись в родных краях в качестве детектива Центральной сыскной полиции с местом работы в Сейняйоки. В Лапуа не верили, что с бумагами такого ветреного парня, как Койвукоски, можно зайти так далеко. С другой стороны, поговаривали, что в только что созданную полицию безопасности на должности детективов попадали и более неприглядные личности. Прибыв в Косолу, Койвукоски был слегка пьян, но не разочаровал. У него была сенсационная новость: он арестовал лидера красного восстания и уполномоченного по делам просвещения Народной делегации Отто Вилле Куусинена на постоялом дворе в Оравайнен.
На следующий день история стала новостью национального масштаба, когда выходящая в Ваасе газета «Илкка» опубликовала небольшую заметку под заголовком «Лидер восстания О. В. Куусинен арестован». По сообщению газеты, Куусинен был арестован в Оравайнен и доставлен в Хельсинки вечерним поездом. Однако для полицейских из Ваасы, читавших газеты, арест Куусинена стал полной неожиданностью. Можно было бы предположить, что местная полиция содействовала операции или хотя бы была о ней осведомлена. Дело стало еще более неприятным, когда губернатор Вааской губернии спросил у комиссара Йохана Маркуса, знает ли тот что-нибудь об этом. Маркус начал выяснять происхождение новости и связался с журналистом «Илкка» Антти Хаапала. Хаапала заверил, что получил информацию из надежного источника. Он также сомневался, что Куусинен доберется до Хельсинки живым, когда его арестовал такой профессионал, как Койвукоски, известный своими «услугами» во время Освободительной войны.
Затем комиссар Маркус позвонил начальнику штаба охранного корпуса Сейняйоки, чтобы связаться с детективом Койвукоски, и потребовал, чтобы тот приехал в Ваасу и дал объяснения по поводу ареста Куусинена. Адресат звонка говорит о том, какую роль в то время играла номинально беспартийная организация обороны страны в государственных полицейских делах. Койвукоски сожалел, что похвастался этим делом в кругу лиц, которых считал надежными, откуда история все же просочилась в газеты. Маркусу он сообщил, что едет в Хельсинки, чтобы дать полные разъяснения по этому делу начальнику Центральной сыскной полиции Оссиану Хольмстрёму. Маркусу пришлось этим удовлетвориться, хотя он и считал историю Койвукоски сомнительной.
Пару дней спустя Вихтори Косола столкнулся с детективом Койвукоски в Лапуа. Когда Косола настоял, чтобы тот рассказал больше о поворотах в деле Куусинена, Койвукоски раскрыл новую сенсационную новость: он на самом деле застрелил Куусинена. Находясь в Косоле, он просто не захотел раскрывать это дело при всех. Койвукоски рассказал, что он преследовал Куусинена на льду у Райппалуото — откуда, по словам Койвукоски, Куусинен пытался бежать в Швецию — догнал его и убил. Новость об убийстве была уже не совсем свежей. Несколькими днями ранее Койвукоски, будучи навеселе, хвастался расстрелом в ресторане второго класса на вокзале Сейняйоки мужчинам, которых он встретил ранее в Косоле: фермеру Исотало, директору банка Лескеля и учителю народной школы Лейнонену. Конец великого лидера восстания был описан захватывающе:
Об убийстве Койвукоски упомянул, что смерть Куусинена была ужасной, Куусинен сильно кричал и стонал. Когда Койвукоски расстегнул пальто Куусинена и показалась кровь, он не осмелился взять никакие бумаги, а [был] охвачен ужасом и сбежал.
Вскоре новый поворот в деле появился и в газетах. Первой из национальных газет новость о смерти сообщила «Суомен Сосиалидемокраатти» во вторник, 17 февраля. «Ууси Суоми» и «Хельсингин Саномат» на следующий день описали событие в столь же кровавых тонах. В главном управлении Центральной сыскной полиции в Хельсинки были в недоумении, так как по официальным каналам никакой информации о судьбе Куусинена не поступало. По их просьбе для выяснения слухов в провинцию был отправлен заместитель начальника уголовного отдела полицейского управления Хельсинки Рафаэль Силандер.
Истинное положение дел стало быстро выясняться, как только Силандер прибыл в Ваасу и Лапуа. Из показаний допрошенных стало ясно, что никто не видел Куусинена ни живым, ни мертвым. Полицейский констебль Хольмстрём из Оравайнена подтвердил, что Койвукоски не связывался с ним, и что за последние дни в Оравайнене никто не был арестован. Сам Койвукоски к этому моменту исчез. Последние сведения гласили, что он сел в поезд, направлявшийся на юг.
От Юхо Койвукоски больше не поступало объяснений. В распоряжение властей он попал только на столе для вскрытия в морге прихода Коккола. Тело, по данным полиции, было найдено в сквере возле вокзала Коккола, с незарегистрированным пистолетом на груди. Врач муниципалитета Коккола Отто Блофильд, проводивший вскрытие, обнаружил в правом виске огнестрельное ранение диаметром чуть более сантиметра: пуля вышла рядом с левой глазницей через отверстие на несколько сантиметров больше. Результат внутреннего и внешнего осмотра показал, что Койвукоски выстрелил в себя сам.
Случай детектива Юхо Койвукоски отражает надежды и страсти Финляндии после гражданской войны. С помощью лжи он сначала возвел себя в ранг национального героя, но вскоре оказался в полном тупике. Другого выхода, кроме высшей меры, казалось, уже не было. Правила молчания и чести, с точки зрения южной Похьянмаа, были слишком сильно нарушены. Публичный позор нельзя было смыть без крайней жертвы.
Люди, подобные Койвукоски, выдвинутые Освободительной войной, для которых война предложила какую-то цель, превышающую жизнь, в начале 1920-х годов жили в послевоенной депрессии. Они читали политические газеты нормализующейся страны и накапливали растущую ненависть к хрупкой демократии и различным угрозам. «Демократы» и открытые коммунисты могли свободно действовать и распространять свою благую весть, а консервативные либералы позволяли цвести всем цветам, даже когда русские угрожали стране из-за границы.
У этих людей была опора только в доверенных членах охранного корпуса. Более крупные планы и решения принимались в еще более узком кругу самых доверенных лиц. Он состоял из воинов-освободителей, которые на полях сражений и в последующих чистках проявили себя как заслуживающие полного доверия. Вокруг этой группы мужчин, приближающихся к среднему возрасту, крутились молодые подражатели: опоздавшие на освободительную войну размахиватели оружием, участники войны в слишком юном возрасте, чьи моральные ценности там были потрясены. Среди них были даже новообращенные, которые из красных стали белыми и сменили место жительства, а некоторые даже имя, чтобы избавиться от бремени своего прошлого. Теперь они были готовы на все, чтобы обелить свою репутацию в новой референтной группе.
1920-е годы стали великим десятилетием националистического радикализма. В это время возникло поле радикальных организаций, утвердились методы их деятельности, и финский фашизм совершил свой выход на сцену. В начале десятилетия у националистических радикалов еще не было единой или четкой идеологии, лишь ряд порожденных опытом 1918 года и общественной нестабильностью 1920-х годов страхов. На их основе сформировалась ультрабелая интерпретация положения в стране. Неоднородность победившего в гражданской войне белого, буржуазного фронта быстро прояснилась в начале 1920-х годов. Внутриполитические волнения отражались на государственной политике в виде слабых, конфликтных и недолговечных правительств; куплетист Тату Пеккаринен издевался, что финский народ меняет правительство, «как в субботу рубашку в сауне». 127
Неоднородность, конфликтность и беспокойство в обществе, казалось, указывали на то, что демократическая общественная система слаба перед лицом как внутренних, так и внешних угроз. Самая белая из белых Финляндия заняла оборонительную позицию. Она укрепилась за идеологией освободительной войны, обороной страны и целями милитаризации общества в охранных корпусах и «Лотта Свярд». Обществу угрожали как колебания мировой экономики, так и советский коммунизм, который, судя по газетным статьям, постоянно усиливал свою хватку над «капиталистическим» миром. Старая задача, которую белое ядро считало своей — надзор за левыми — получила новый импульс от усилившейся активности левых, подобной коммунистическому молодежному движению. Националистических радикалов также объединяла деятельность по срыву забастовок, инициированная экспортной промышленностью, благодаря которой ветераны освободительной войны вернулись в качестве общественных деятелей и могли выполнять ощутимую работу по разгрому большевизма.
Силы, защищающие отечество, снова понадобились.
Боби Сивен и борющаяся молодежь
1920-е годы националистического радикализма начались под звуки выстрелов. В самом значимом из них, стартовом выстреле, произведенном в Реполе в Восточной Карелии, тоже речь шла о чести. Вечером 12 января 1921 года, когда часы показывали уже больше десяти, в здании муниципалитета Реполы, в комнате продовольственного комитета, раздался выстрел из пистолета. На звук выстрела в комнату поспешили писарь Хиппинен и другие чиновники. Они нашли за рабочим столом мертвым молодого ленсмана Реполы и Пораярви, Ханса Хокана Кристиана «Боби» Сивена. 128
Выстрел Сивена себе в грудь был протестом. Незадолго до своего решения он получил от комитета по иностранным делам правительства приказ не вооружать население Реполы и Пораярви. Цель состояла в том, чтобы они не стали сопротивляться присоединению волостей к Советской России на основании мирного договора, заключенного в Тарту между Финляндией и Советской Россией.
На момент смерти Сивену был 21 год, он был студентом историко-филологического факультета Хельсинкского университета и в декабре 1919 года был избран ленсманом Реполы. Сивен, получивший свою должность «благодаря умелому лоббированию» в обход более опытных кандидатов, был восторженным племенным воином. По происхождению он был из известной семьи активистов; отец, Вальтер Освальд Сивен, был одним из основателей союза «Войма» и Активного комитета и одним из самых заметных активистов в бурных 1917-1918 годах. Старший брат Боби, Пааво Сивен, позже Суситайвал, в самом начале гражданской войны возглавлял карельских членов охранного корпуса на пути из Выборга на остров Веняянсаари. 129
Боби Сивен участвовал во взятии Хельсинки и присоединился к экспедиции в Беломорскую Карелию в августе 1918 года. Освобождение Карелии, находящейся под властью Советской России, стало его политической путеводной звездой. Вернувшись из неудачного похода из Беломорья, Сивен стал центральной фигурой в продвижении идеи племенного единства среди студентов университета. Целью было присоединение к Финляндии финно-угорских народов, остающихся под игом советской власти.
Самоубийство Сивена было криком боли, вырвавшимся на фоне духовной депрессии белых сил после гражданской войны. В студенческих кругах из этого сознательно создали историю мученичества, которая, в свою очередь, подтолкнула националистическую студенческую молодежь на путь черной борьбы. В результате смерти Сивена и неудавшегося восстания в Восточной Карелии в студенческих кругах было основано Академическое Карельское Общество (АКС), а вскоре и его женское отделение, Карельское Общество Студенток (NYKS). На создание АКС особенно повлияли три радикал-студента: Эркки Ряйккёнен, Рейно Вяхякаллио и Элиас Симелиус (позже Симойоки). За этим стояли также ключевые активисты Эльмо Э. Кайла, Герман Стенберг, Юрьё Рууту и Пааво Сивен (Суситайвал), а также командиры добровольческих отрядов восстания в Восточной Карелии Гуннар фон Гертцен и Пааво Талвела. Таким образом, у движущих сил движения были связи не только с воинами-освободителями и активистами, но и с егерским движением, «тюремными егерями», племенными воинами и разведывательным органом охранных корпусов «Кескус», осуществлявшим внутренний надзор. 130
АКС при своем возникновении было своего рода кристаллизацией надежд старых активистов и националистических радикалов, в котором предыдущее поколение возлагало свои надежды на новую молодежь. Движение возникло не случайно: оно было результатом тщательной подготовительной работы в напряженной атмосфере «позорного Тартуского мира». В присяге на знамени Академического Карельского Общества клялись в верности делу национального пробуждения Финляндии и Великой Финляндии; Боби Сивен стал мучеником освобождения братских народов, а его могила стала местом паломничества для АКС, где ежегодно собирались во имя идеи племенного единства. «Боби Сивен был первым членом АКС — еще до того, как Академическое Карельское Общество вообще существовало», — писал позже Вилхо Хеланен:
“Он был идеалом финского мужчины и борца, и его жизнь и смерть служат образцом для тех, кто придал присяге [Академического Карельского Общества] ту форму, которую она имеет.” 131
Академическое Карельское Общество стало первым и самым долговечным финским националистическим радикальным движением. Его влияние основывалось на членском составе, который состоял из студентов университетов, направлявшихся на руководящие посты в обществе. В течение 1920-х годов АКС расширило свою программу от идеи племенного единства и набросков Великой Финляндии до общественно-политических вопросов. Оно формировало финское общество, обращая внимание на языковой конфликт, сглаживание классовых противоречий, гражданское воспитание, семейную политику и оборону страны. Его идеологи намечали милитаризацию школьного образования и использование гуманитарных предметов, особенно истории, в качестве открыто пропагандистского воспитательного средства. Преподавание физкультуры, родного языка, истории и географии должно было служить военной подготовке и распространять узко-националистические знания о родине. 132
АКС было сильно не только как организация, но и идейно. Вокруг него действовала академическая интеллигенция, которая, в отличие от грубоватых идеологов многих других народных движений, была способна перенимать иностранные влияния, намечать новые общественные теории и проводить идейные направления. В то время как Лапуаское движение и Союз фронтовиков Освободительной войны застряли на исправлении общества с помощью лозунгов, АКС стремилось к общественным изменениям на широком фронте.
Национальный радикализм не только студенческой молодежи, но и поколения ветеранов освободительной войны начал формироваться в течение 1920-х годов. Эту группу объединяло повторение опыта освободительной войны в публикациях и на торжествах и увековечивание памяти освободительной войны в статуях и монументах. В качестве общенациональной сети единомышленников действовала организация охранных корпусов, в которой радикалы имели сильное представительство на протяжении всего времени ее существования: в течение 1920-х годов для радикализма возникло региональное поле организаций. В Хельсинки преобладал радикализм с егерским и активистским прошлым; его ключевые фигуры, такие как Арне Сомерсало и Арви Кайста, были ветеранами мировой войны.
Националистические радикалы региона Тампере были подчеркнуто белыми ветеранами 1918 года. В их руках в конце десятилетия был Союз фронтовиков Освободительной войны, возникший вокруг фабриканта Рафаэля Хаарлы и Онни Пурхонена. Радикализм Южной Похьянмаа олицетворяли главный редактор газеты «Илкка» Арттури Лейнонен, а также такие землевладельцы, как Кустаа Тиитту и Вихтори Косола, у которых помимо активистского прошлого были связи со штрейкбрехерами из «Юхтюмя Виентирауха». Важнейшими центрами радикалов в Центральной Финляндии стали Ювяскюля и Виитасаари благодаря учителю школы для глухонемых Мартти Пихкала, майору-егерю Гуннару фон Гертцену и пастору Матти Яаккола. Они были ключевыми фигурами в выходе на сцену насильственного националистического радикализма.
В Северном Саво, в регионе Куопио-Иисалми, самым влиятельным радикалом стал Элиас Симойоки, чей вклад в подъем молодежи и в качестве лидера молодежной организации «Синимустат» АКС и более позднего Патриотического народного движения был несравненным. Зачатки деятельности были также в окрестностях Хямеенлинны, Пори, Миккели, Йоэнсуу и Сортавалы. Эти группы объединяли опыт освободительной и часто также племенных войн, членство в охранном корпусе и глубокое недоверие к рабочему движению и особенно к коммунистам. Во многих населённых пунктах прослеживалась явная связь между активной деятельностью Социалистической рабочей партии Финляндии и леворадикально настроенных молодёжных организаций социал-демократов, с одной стороны, и ростом националистического объединения — с другой. Например, Союз фронтовиков Освободительной войны в Тампере и Патриотический клуб Виитасаари были «белыми островками» на «красных» территориях как в муниципальной, так и в государственной политике.
С востока не приходит ничего хорошего, кроме солнца
То вялое отношение к коммунистической угрозе, в котором виновны как государственная власть, так и социал-демократия в Финляндии, к сожалению, нашло отклик и в обществе в целом.
Арне Сомерсало 1930
Вербовщик егерей, воин-освободитель и штрейкбрехер, позднее ведущая фигура Лапуаского движения Вихтори Косола, охотно говорил о марксизме как о воплощении всего зла. Поскольку весь финский социализм был разновидностью марксизма, патриотическим силам следовало противостоять как коммунизму, так и социал-демократии. В войне 1918 года белые считали, что сражаются против организационной структуры социал-демократов, что отчасти и происходило. Для таких националистических радикалов, как Косола, коммунизм и социал-демократия были двумя сторонами одной медали. 133
Все мышление и деятельность радикалов, на первый взгляд, основывались на абсолютном неприятии советского и отечественного коммунизма. Радикалы были не одиноки в своей ненависти: русофобия была типичным образом мышления финского общества в межвоенный период. Согласно этому мышлению, у финского народа было уже «в душе народа» передаваемое из поколения в поколение недоверие и ненависть к «русским». Годы угнетения и гражданская война показали, что ненависть была обоснованной и оправданной: с приходом к власти большевиков в России угроза, по мнению многих, только усилилась. 134
Угроза советского коммунизма в интерпретации Арне Сомерсало и многих его единомышленников напрямую становилась частью вечной борьбы между Востоком и Западом. Советский коммунизм был гораздо более серьезной угрозой, чем «русскость» или царский гнет. Он угрожал всему общественному строю, таким институтам, как церковь и школа, рынку труда, внешней торговле и общим представлениям о нравственности. Это было восстание низменных сил против порядка. 135
Тревога радикалов перед угрозой «марксизма» и их планы по его уничтожению с течением 1920-х годов начали отставать от времени. С самого начала десятилетия государственная власть решительно вмешивалась в возможности деятельности партийной прессы, когда часть левой прессы склонилась к коммунизму. В 1919-1930 годах в общей сложности 258 газет получили иски по делам о печати; из них более двух третей были направлены против коммунистических газет. 136
Судебные процессы по делам о государственной измене также эффективно проредили ряды коммунистов. Судебные процессы начались в широком масштабе в 1925 году с большого судебного дела, касающегося социалистического союза молодежи, в котором 45 человек были обвинены в подготовке государственной измены. Всего за 1920-е годы за государственные преступления было осуждено 1615 человек — в основном принадлежавших к левому политическому крылу — к различным срокам тюремного заключения. 137
Таким образом, государственная власть уже крепко взялась за коммунистическую инфильтрацию. Устранение коммунистов из процесса принятия общественных решений и изоляция обвиненных в измене родине или государству были факторами, в которых отношение правящей элиты и государственной власти было уже благосклонно к националистическому радикализму. На представления радикалов об опасности коммунизма все это вряд ли повлияло. Они по-прежнему могли набирать очки у неосведомленных, грозя кулаком «советскому большевизму, проникающему повсюду в нашу страну».
То же самое касалось отношения радикалов к социал-демократам. Хотя социал-демократы таннеровского толка и отреклись от мятежа и после гражданской войны переродились, став политически респектабельными, старые грехи по-прежнему помнили. Печатный орган Союза фронтовиков Освободительной войны, газета «Ринтамамиес», напомнил вызывающе посреди траура после мятежа в Мянтсяля в 1932 году:
За эти 14 лет нет ни одного доказательства того, что социал-демократия каким-либо образом изменила свою сущность или цели. — За эти 14 лет не было видно ни малейшего признака того, что они сожалеют о содеянном [попытке государственного переворота 1918 года] в том смысле, что это было преступное деяние, наоборот, наши социалисты сожалеют, что исполнение преступления не удалось согласно их расчетам. Не нужно читать много социал-демократических газет, чтобы уже заметить посев необузданной ненависти и позора, например, по отношению к охранным корпусам (шюцкору). 138
Грехом социал-демократов, помимо мятежа, считалось и то, что они недостаточно решительно противостояли продвижению коммунистов в рабочих организациях. В этом, конечно, была доля правды: организационное поле рабочего движения раскололось после гражданской войны, и особенно в молодежном союзе и профсоюзном движении у коммунистов в 1920-х годах были сильные позиции. В пик Лапуаского движения социал-демократические газеты неоднократно обвиняли движение в фашизме, что в глазах Арне Сомерсало и многих других ясно показывало, на чьей стороне стоят социал-демократы. 139
Отчасти это было правдой, поскольку между социал-демократами и коммунистами на протяжении всех 1920-х годов шла борьба за контроль над центральной профсоюзной организацией — Профессиональной организацией Финляндии (SAJ). Осужденные по большому делу о государственной измене в середине 1920-х годов были членами социал-демократического союза молодежи; так что и здесь были не так уж далеки от истины, а скорее, удобно близки. Особенно Сомерсало был обеспокоен коммунистическими депутатами:
Деятельность коммунистов в парламенте сделало чрезвычайно опасным то обстоятельство, что они могли не только заниматься самой наглой революционной агитацией под прикрытием парламентской неприкосновенности, но и то, что эту агитацию, не встречая препятствий со стороны закона, можно было распространять среди всего народа в газетах и листовках. С помощью этих речей из коммунистической прессы можно было создать самую лучшую школу. 140
Коммунизм был внешней угрозой, которая уже находилась внутри нации. В конце 1920-х годов Сомерсало представил резюме, согласно которому дела в течение десятилетия шли все хуже и хуже. Согласно интерпретации радикалов, профсоюзное движение находилось под контролем коммунистов, как и большая часть различных рабочих ассоциаций: «В рабочем трезвенническом движении и спортивном движении коммунизм год от года приобретал все большую власть, а в кооперативном движении он только недавно начал свою большую атаку». 141
Ненависть ко всему, что даже напоминало коммунизм в отечестве, была центральной частью мышления радикалов по двум причинам. Слово «коммунизм» впитывало в себя все возможное, чему можно было противостоять, все, что было чуждо патриотизму, национальному единству и целям сильной нации. С другой стороны, коммунизм был также хорошим врагом, поскольку во второй половине 1920-х годов ненависть и страх перед коммунизмом объединяли почти все национальное политическое поле. Под этим знаком можно было только побеждать.
Против штрейкбрехерства
Кафе «Примула» на пересечении улиц Хейкинкату и Калеванкату было одним из самых популярных мест встреч в Хельсинки. Одним вечером в начале лета 1928 года в кабинете «Примулы» собралась пестрая компания. В комнате, наполненной табачным дымом, около двадцати мужчин оживленно обсуждали политику. Объектами критики были широкие забастовки и локауты, терзающие страну, деятельность коммунистов и финская политическая система. Кафешная политика следовала знакомому образцу: существующие партии ругали за бесхребетность и безынициативность, а правительство — за трусость.
Одним из организаторов собрания был 45-летний инженер, изобретатель, языковой фанатик и сторонник идеи Великой Финляндии Ниило Раувала. Он вместе с Леннартти Похьянхеймо созвал людей, чтобы основать новую политическую партию, которая бы начала борьбу с коммунизмом и государственными недостатками. Новой партии было дано название Финская Народная Партия. На официальном учредительном собрании осенью было объявлено, что больше нет «речи о словах и разговорах. Теперь пробил час действовать». 142
Одновременно существовали и другие проекты радикальных партий. Одна из них называлась Независимая Рабочая Организация Финляндии. Ее ключевой фигурой был редактор Ялмари Яло-Киви. До мировой войны он был председателем Финского Спиритического Общества и опубликовал, среди прочего, книгу «Голоса из-за могилы, или невидимый мир». Независимая Рабочая Организация Финляндии была плодом драматических трудовых конфликтов, политизированной атмосферы и усугубляющегося экономического спада. Ее целью, как и у многих других подобных организаций, было уничтожение профсоюзов, считавшихся коммунистическими, и создание вместо них национально мыслящего и действующего рабочего класса.
Пути Раувалы и Яло-Киви пересеклись лишь пару лет спустя, когда Раувала вступил в Свободный Рабочий Союз. Это было объединение, которое продолжило деятельность распавшейся из-за внутренних разногласий Независимой Рабочей Организации Финляндии. Яло-Киви, правда, вскоре основал новую организацию, Финскую Национальную Рабочую Партию, и ее печатный орган, газету «Суомен Тюёляйнен» (“Финский рабочий”). Этот способ действий был типичен для националистических радикальных кругов: эгоцентричные и часто своеобразные личности постоянно создавали и закрывали свои маленькие организации и газеты. Организационное поле постоянно жило своими внутренними распрями, расколами, слияниями и новыми начинаниями. 143
Группа, собравшаяся в кафе «Примула», была одним из первых признаков усиливающейся волны националистического радикализма. Она набирала обороты от бурных трудовых конфликтов 1920-х годов и вызванных ими реакций. Осуждение забастовок создало благодатную почву для популизма, который приветствовал широкие массы бывших воинов-освободителей, недовольных обществом или своей собственной жизнью. Внезапно нашелся козел отпущения за экономическую и политическую неопределенность в стране: вокруг него было легко объединить и более широкие политические взгляды о «оздоровлении нации». Явление следовало знакомому образцу популистских движений, в которых центральную роль играли резкое упрощение общественных вопросов, агрессивность и поиск врага.
Одним из искателей нового пути, присутствовавших на собрании в «Примуле», был Пертти Уотила (бывший Бенгт Фавен), брат известного художника Антти Фавена. Уотила в начале века изучал этнографию, и в круг его друзей входили будущие великие имена финского социализма: Юрьё Сирола, Отто Вилле Куусинен и Суло Вуолийоки. Будучи ярым социалистом, Уотила участвовал в создании первого финского перевода «Интернационала».144
Однако вскоре Уотила бросил учебу. На полученное наследство он финансировал исследовательскую поездку в Палестину вместе с художником Сигурдом Веттенхови-Аспа и Вальтером Юва. За этим стоял трагикомический проект английского аристократа Монтегю Браунслоу-Паркера по поиску библейского Ковчега Завета. Ковчег не был найден. Уотила потерял большую часть своего состояния. Также брак с сестрой Суло ВуолиЙоки, Тюуне Вуолийоки, закончился примерно в то же время.
Мировая война предоставила Уотиле спасение. Он поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге и через него попал на сражения мировой войны на восточном фронте. В гражданской войне в Финляндии Уотила участвовал в рядах белой армии и был ярым сторонником племенных войн. Он участвовал в планировании нереализованного военного похода в Беломорье в начале 1919 года и участвовал в вербовке добровольцев в районе Выборга для Олонецкой экспедиции. Военная карьера в Финляндии, однако, прервалась в начале 1920-х годов из-за его прошлого в качестве «русского офицера». Беспокойный Уотила перешел в издательское дело в Похьянмаа. 145
Уотила нашел новый духовный дом в радикализованных националистических кругах и подружился с Вихтори Косола. К концу 1920-х годов Уотила уже стал полноценным радикалом, который видел спасение страны в государственном перевороте и авторитарном государстве. Он несколько раз посещал начальника Центральной сыскной полиции Эско Риекки, предлагая идеи государственного переворота и обсуждая кандидатов в диктаторы. Риекки, возможно, разговаривал с Уотилой, чтобы быть в курсе планов радикальных кругов; в своих отчетах он описывал Уотилу как «истерика». Это не помешало Уотиле написать несколько речей для Вихтори Косола в период расцвета Лапуаского движения. 146
Другим организатором собрания в «Примуле» и движущей силой Финской Народной Партии был Леннартти Похьянхеймо (до 1907 года Квикстрём). Похьянхеймо родился в 1875 году, окончил Александровское военное училище в Москве и служил в русской армии, в частности, в Каунасе и Выборге. Однако уже в начале 1900-х годов он перешел в резерв, выучился на юриста и работал копиистом в сенате и в канцелярии статс-секретаря в Петербурге.
Мировая война призвала Похьянхеймо обратно в русскую армию. Он служил всю войну в крепости Виапори. После большевистского переворота Похьянхеймо, награжденный орденами Святой Анны и Святого Станислава III степени, бежал в Швецию. Оттуда он вернулся в Финляндию и принял участие в гражданской войне в артиллерии белых. Армейская карьера в вооруженных силах независимой Финляндии прервалась в начале 1920-х годов. Причиной была неспособность Похьянхеймо к адаптации и его сварливый характер. Друзей в армии у него осталось мало, так как Похьянхеймо выступал против как шведоязычных, так и служивших в России, и получивших немецкое образование офицеров, и придерживался строгой линии трезвости. Когда он в газетной статье по имени упрекнул нескольких своих товарищей-офицеров за пьянство, его военная карьера закончилась. В своем прошении об отставке на имя президента подполковник Похьянхеймо сообщил, что финской армии угрожают прежде всего ненациональные элементы, то есть шведоязычные, и пьянство. 147
Положение Похьянхеймо также ослабляли неоднократные судебные разбирательства. Особенно неблагоприятно для него закончился иск, который он подал против своей бывшей жены. Больший успех сопутствовал собственной жене Похьянхеймо, которая подала на него в суд за постоянную тайную связь с приемной дочерью. Похьянхеймо был приговорен к году тюремного заключения за преступление против нравственности и оскорбление чести. 148
Национальный радикализм нашел в Похьянхеймо понимающего сторонника. В 1920-х годах он основал собственную адвокатскую контору и был крупнейшим владельцем издательской компании «Саномалехти Суомалайнен», которая выпускала собственную газету (с 1926 года под названием «Хельсингин Лехти», затем в 1928-1931 годах «Ноусева Суоми» и в 1931-1944 годах «Суомалайнен»). Газета стала основой, когда он вместе с Раувалой начал создавать партию. Летом и осенью 1928 года пара путешествовала по всей Финляндии, агитируя за новую партию и создавая местные отделения. Успех был незначительным.
Политиканство, которым занимались в «Примуле», было в повестке дня не только у политических эксцентриков, таких как Раувала, Яло-Киви, Уотила и Похьянхеймо, но и у интеллигенции. Статья члена Академического Карельского Общества, писателя и исследователя народного творчества Мартти Хаавио в культурно-либеральном журнале «Туленкантая» хорошо описывала дух времени:
Совершенно преступно в этой стране утверждать, что коммунизм — это беспорядки, якобы вызванные экономическим кризисом и безработицей. Речь идет об агентах иностранной державы, о людях, которых во все времена называли эфиальтами и иудами. Борьба с коммунизмом, этой чумой, уничтожающей жизненные корни народа, также является частью создания фундамента Великой Финляндии. 149
В то же время, в конце 1920-х годов, борьба на рынке труда, проявившаяся в самой острой форме в виде забастовок, в районе Тампере привлекала к участию людей, занимающих значительное общественное положение. «Многие коллективные трудовые договоры, заявленные в Министерство социальных дел, не соответствуют требованиям закона, т.е. не являются никакими коллективными трудовыми договорами», — писал фабрикант из Тампере Рафаэль Хаарла в своей брошюре «Борьба за коллективные трудовые договоры», опубликованной в 1929 году. По словам Хаарлы, большинство профсоюзных отделений и объединений вообще не были зарегистрированными обществами, а лишь выдавали себя за таковые. Сотрудничество с такими «объединениями», по его мнению, представляло риск для работодателя:
“Заключение договоров с партнером, который не имеет на это права, также свидетельствует о поразительном безразличии со стороны работодателя, ведь он связывает всю свою деятельность на год или два вперед юридически несостоятельным договором.” 150
Фабрикант Хаарла, внезапно разбогатевший бывший коммивояжер Харберг, увлекся финской политикой на рынке труда во время длительных забастовок в приходе Нокиа в 1927-1928 годах, ведь его собственный завод находился почти в прямой видимости от резинового завода в Нокиа. Побуждаемый горьким опытом 1918 года, Хаарла везде видел красных. В его глазах наибольшую тревогу вызывала вопиющая политизированность финского профсоюзного движения. По словам Хаарлы, деятельность профсоюзов почти полностью находилась в руках коммунистов, а те, в свою очередь, действовали по указаниям из Москвы в рамках коммунистической подрывной работы. Чтобы доказать свои утверждения, Хаарла цитировал председателя центрального совета профсоюзов Советского Союза Михаила Томского:
“единственным органом, на который могло опереться новое пролетарское правительство, были рабочие организации, профессиональные организации. Коммунистическая партия взяла власть при самой активной помощи профессиональных организаций. Профессиональные организации во время борьбы формировали красные гвардии. Аппарат профессиональных организаций во время революционной борьбы был полностью поставлен на службу завоевания власти.” 151
Мировая экономика в начале 1920-х годов погрузилась в рецессию, выход из которой был медленным и трудным. Начавшийся в середине десятилетия подъем конъюнктуры в Финляндии также быстро прервался, и вторая половина 1920-х годов была отмечена широкими и продолжительными забастовками. Уже в портовых забастовках, вспыхнувших в 1919 году, с точки зрения работодателя, присутствовал дух политической игры. Буржуазная пресса объявила их подготовкой к новой революции, руководимой из Советской России.
Эта интерпретация не была полностью неверной. Профсоюзы в 1920-х годах поднялись из послевоенного упадка, и наряду с социал-демократами в них стал слышен и голос коммунистов. В пиковый 1927 год было 79 прекращений работы, и бастовало более 13 000 рабочих. Белую Финляндию также будоражили сведения о том, что забастовка на Crichton-Vulcan в 1927 году и начавшаяся следующим летом портовая забастовка, длившаяся год, носили политический характер, так как было известно, что Советская Россия поддерживала забастовки финансово. Работодатели ответили на это, сначала используя систему штрейкбрехеров, организованную охранными отрядами (suojeluskunta), а позднее — организацию «Yhtymä Vientirauha» («Союз Экспортный Мир»), созданную для срыва забастовок. 152
Срыв забастовок сначала стал задачей охранных отрядов. Главнокомандующий охранными отрядами Георг Дидрик фон Эссен еще в начале августа 1919 года обратился к начальникам округов охранных отрядов: «Прошу вас в частном порядке призывать членов охранных отрядов в тех районах, где идут забастовки, содействовать поддержанию работы». Однако фон Эссен подчеркнул, что никого нельзя было принуждать, и к работе следовало приступать не как члену охранного отряда, а как частному гражданину». Таким образом предполагалось, что деятельность будет выглядеть лишь патриотической, а не политической. 153
Близкие к работодателям активисты белой Финляндии под руководством экспортной промышленности начали формировать по иностранным образцам организации штрейкбрехеров. История срыва забастовок уходит корнями еще во времена автономии, но в 1920-х годах срыв забастовок приобрел более сильное политическое измерение и со стороны работодателей. Теперь срыв забастовок стал патриотической деятельностью, которой предотвращали коммунистическую подрывную работу. Хотя отчасти так и было, вмешательство извне ослабляло также положение тех рабочих, которые не были «наймитами Москвы».
Самой активной отраслью в отношении штрейкбрехерской деятельности была бумажная промышленность: отрасль была трудоемкой, и ущерб от забастовок в этой важнейшей сфере экспортной промышленности был значительным. Использовать штрейкбрехеров было возможно, поскольку большая часть работы не требовала особой квалификации. Патриотический элемент в случае забастовки можно было привлечь телефонным звонком в штаб ближайшего охранного отряда.
Директор компании “Kymi-yhtiö” Эйнар Альман и директор компании “G. A. Serlachius Osakeyhtiö” Гёста Серлакиус были ключевыми основателями созданной в 1920 году организации «Yhtymä Vientirauha», руководство которой было передано в руки активиста Мартти Пихкала. Организация вскоре стала известна как «Гвардия Пихкалы». Изначально «Vientirauha» финансировалась бумажной промышленностью, но в течение 1920-х годов к ней в качестве спонсоров присоединились все крупнейшие союзы работодателей. Наряду с «Vientirauha» была основана просуществовавшая недолго организация «Teknisen Työn Turva» («Защита технического труда»), которая вербовала штрейкбрехеров для отраслей, требующих специальных навыков. 154
Там, где членов охранных отрядов не удавалось мобилизовать в достаточном количестве, набором необходимых работников занимались вербовщики. В вербовочной деятельности в ключевом надежном регионе, Южной Остроботнии, с исключительной решимостью действовал один хозяин из Лапуа, Вихтори Косола. Именно через организацию штрейкбрехеров Косола, безусловно, хорошо известный на местном уровне активист, приобрел более широкую известность в кругах, которые еще искали свою форму.
Если бастующие рабочие населяли рабочие поселки и окраины промышленных центров, то большинство завербованных штрейкбрехеров происходило, как правило, из сельских общин близлежащих районов. Срыв забастовок означал дополнительный заработок для взрослых сыновей хозяев и более состоятельных жителей мелких хозяйств. Южная Остроботния, независимо от места забастовки, была широко представлена как родина штрейкбрехеров. Часть завербованной рабочей силы всегда была доступна для работы, и в итоге у «Vientirauha» была картотека, насчитывающая около 34 000 подходящих работников. 155
Наем надежных рабочих во время забастовок, в свою очередь, обострял внутренний конфликт в рабочей среде. Рафаэль Хаарла с точки зрения белого работодателя описывал борьбу на рабочих местах как террор на производстве:
Через политические профсоюзы мы утратили мирный труд и право на труд до такой степени, что самый патриотичный элемент страны, члены охранных отрядов и участники Освободительной войны, подверглись террору на рабочих местах, и государственная власть в существующих условиях не смогла начать их в достаточной мере защищать, несмотря на положение формы правления о том, что рабочая сила граждан находится под защитой государства. 156
Таким образом, проблемой, с точки зрения Хаарлы, было то, что левые политизировали рынок труда. И это еще не все. Коммунисты внедрились не только на рынок труда, но и в законодательную работу:
В Эдускунте (парламенте) сидит группа людей, которые являются заклятыми врагами общества. У них есть возможность проникать в самые глубокие тайны нашего оборонного ведомства. Не было даже попыток воспрепятствовать доступу наших врагов в парламент или удалить их оттуда, не говоря уже о других местах. Народ расколот, но, по моему мнению, хорошего результата не будет, пока весь патриотический элемент не сможет объединиться — независимо от языка и социального положения. У тех, кто у руля, всегда должна быть цель общего блага и достижения благосостояния всего народа. 157
Хаарла в своем памфлете изложил все ключевые аргументы, страхи и подозрения, которые царили среди работодателей и «патриотических рабочих» в Финляндии 1920-х годов. Для них 1920-е годы представлялись отвратительным десятилетием политиканства. Освободительная война, казалось, не решила и этих проблем родины, а они обострялись раз за разом.
Срыв забастовок стал каналом, через который национально мыслящие радикалы заняли свое место в Финляндии после гражданской войны. Бывшие участники Освободительной войны и вербовщики егерей снова выполняли патриотическую работу, теперь вербуя людей на остановленные коммунистами рабочие места. В деятельности штрейкбрехеров сошлись самое жесткое крыло белой Финляндии и работодатели, для которых стабилизация рынка труда и противодействие профсоюзному движению стали общей целью. В этом также сошлись идеологически окрашенные рынки рабочей силы; вербовщиков можно было находить через штабы охранных отрядов, и таким образом работа на заводе становилась патриотической деятельностью. 158
1929 год стал безумным годом финского национального радикализма. В течение этого года радикализм быстро завоевал поддержку широких кругов общества и превратился в силу, расшатывающую всю политическую систему. Если в начале 1929 года цели национальных радикалов казались далекими мечтаниями, то к его концу уже ничто не казалось невозможным.
Волне национального радикализма предшествовал период, когда деятельность радикалов казалась в основном безобидным, несколько забавным занятием отдельных чудаков. Хотя многие отдельные попытки и деятели и позже остались незначительными, они, тем не менее, свидетельствовали об изменении духа времени. То, что еще вчера казалось неуместным и смешным, внезапно стало приемлемым и ценным.
Пионерская эра радикализма вывела на сцену тех же людей, методы, темы и символы, которые привели к успеху как Движение Лапуа, так и позднее Патриотическое народное движение. Ультранационалистические идеи ветеранов Освободительной войны и тех, кто шел в их кильватере, объединились в политическое, идеологическое движение. Первыми серьезными попытками стали основанные в начале 1929 года Союз Ла́лли Финляндии и возникший в то же время союз белых ветеранов — Союз фронтовиков Освободительной войны, который за год вырос из ничтожества в политическую силу.
Союз Лалли: первая попытка и ошибка
Когда Финская народная партия провела свое учредительное собрание в ноябре 1928 года, люди из «Примулы» Ниило Раувала, Пертти Уотила и Леннартти Похьянхеймо были там. Партия получила свой неофициальный печатный орган в виде газеты, издаваемой Похьянхеймо, которая была названа «Ноусева Суоми» («Восходящая Финляндия»). Статьи в газете отличались пылким финским духом. Она требовала, среди прочего, убрать из герба Финляндии льва, не принадлежащего к национальной фауне, и заменить его отечественным медведем, а также изменить название столицы страны на Сампола. Однако жизненный цикл Народной партии оказался коротким, и было решено продолжить деятельность под названием новой партии. В начале февраля 1929 года те же деятели основали Союз Лалли Финляндии. Ниило Раувала стал председателем партии, а Похьянхеймо — ее финансистом.
В программе Союза Лалли также не было недостатка в национальном угаре. Наиболее последовательно продвигаемыми темами союза были антикоммунизм и «айтосуомалайсуус» (истинный финнизм); другой последовательности в его деятельности не наблюдалось. Короткий период деятельности остался хаотичным, его окрашивали внутренние конфликты, фантастические теории заговора и откровенная ложь. Союз выступал против парламентаризма и демократии, мечтал о государственном перевороте и диктаторе. При установлении нового порядка провокации, прямые действия и создание беспорядков были, очевидно, приемлемыми методами: значение имела только цель. 159
В языковой политической дискуссии был достигнут совершенно новый уровень, когда секретарь союза и его неофициальный идеолог, моряк Антти Саламаа, опубликовал свои мысли в изданной Похьянхеймо осенью 1929 года брошюре «Государственная власть — финнам». В произведении утверждалось, что все проблемы страны, как моральные, так и политические, происходят от шведоязычного населения страны. Проблемы исчезнут, когда Финляндия станет чисто одноязычной. Название Союза Лалли, отражающее националистическую мифологию, получило в поддержку собственный символ-медведь и флаг, на котором были изображены медвежья шкура и карта Финляндии. Символ медведя союз под руководством Саламаа предложил также в качестве нового герба Финляндии. Через посредников предложение дошло до президента Кюёсти Каллио, который, несколько неожиданно, счел идею хорошей. По инициативе союза герб с медведем даже попал в число предложений официального комитета по гербу 1936 года. 160
К деятельности Союза Ла́лли пытались привлечь как можно более известные имена. Деятели распространяли слухи, согласно которым к ним присоединились, в частности, командующий армией Аарне Сихво, командующий охранными отрядами Лаури Мальмберг и начальник Центральной сыскной полиции Эско Риекки. Правдой было, по крайней мере, то, что руководители союза стремились наладить связи с кругами охранных отрядов. Связь с охранными отрядами настолько встревожила министра внутренних дел Т. М. Кивимяки, что он попросил Центральную сыскную полицию следить за деятельностью Союза Лалли.
В провокационных целях союз распространял слухи о грозящем стране коммунистическом перевороте, который должен был состояться в день памяти Освободительной войны, 16 мая 1929 года. Одновременно Союз Ла́лли планировал на август 1929 года марш двенадцати тысяч человек на Хельсинки. Целью марша было прервать работу парламента, совершить государственный переворот и установить в стране диктатора. Руководить маршем предполагалось поручить Вихтори Косоле, ставшему известным как вербовщик штрейкбрехеров, который, как утверждалось, участвовал в этом проекте. Планы даже не пытались скрывать: Саламаа из Союза Ла́лли рассказал даже Эско Риекки о планах союза провести марш на Хельсинки по образцу фашистского марша на Рим. 161
Союз Лалли и иным образом пытался обеспечить себе тылы; его представители действительно обращались к Аарне Сихво с просьбой принять участие в их попытке переворота. Они утверждали, что патриоты и бывшие сенаторы независимости П. Э. Свинхувуд и Хейкки Ренвалл также участвовали в этом проекте. Всю весну 1929 года деятели Союза Лалли искали для руководства союзом достаточно яркую личность. На эту роль рассматривались Вихтори Косола и Арви Калста, из которых последний, по-видимому, согласился. Калста выступил на собрании союза в мае 1929 года вместе со знаменитым активистом из Южной Остроботнии Антти Исотало. Также удалось привлечь в Союз Ла́лли известных в радикальных кругах жителей Тампере, егерь-капитана Иивари Хюппёля и фабриканта Рафаэля Хаарлу.
Когда даже такой плохо управляемый и хаотичный проект смог вызвать энтузиазм и интерес, то было ясно, что его идеи были недалеки от духа времени. В настроениях весны 1929 года были явные признаки того, что страна находится в состоянии брожения. Центральная сыскная полиция могла докладывать о росте «хозяйского духа» в Южной и Северной Остроботнии. Ожидали сильного лидера, который придет и распустит парламент. Большое внимание привлекло рассуждение газеты «Илкка» о необходимости такого сильного лидера, который разом навёл бы порядок в стране. 162
Что именно нужно было делать, однако, было не очень ясно. Определение проблемы обычно начиналось с забастовок и угрозы коммунизма, а затем переходило к гораздо более туманным речам о национальной воле и более широких общественных изменениях. Весной 1929 года слухов о фашистском государственном перевороте было больше, чем когда-либо. Особенно забастовка чиновников пугала представителей государственной власти и левых. Забастовка парализовала бы общество и, что хуже всего, правоохранительный аппарат полиции. Ходили слухи о «уже существующих сетях», которые ждали возможности использовать забастовку в борьбе против парламента и парламентаризма. Говорили, что генеральный штаб армии под руководством генерала К. М. Валлениуса полностью на стороне забастовки — и, следовательно, государственного переворота. Союз Лалли активизировался; Пертти Уотила на случай забастовки чиновников составил письменный план под названием «Новая общенациональная система». 163
Для подготовки переворота в Хельсинки также действовал Рафаэль Хаарла, который встретился с министром внутренних дел Кивимяки.Требование Хаарлы было ясным: если профсоюзные движения не будут запрещены по закону, это произойдет «кровью». Угроза фашистского переворота, связанная с забастовкой чиновников, была воспринята всерьез. Правительство решило распустить парламент, когда стало очевидно, что он не одобрит требования о повышении зарплат чиновникам. 164
Союз Лалли в итоге не стал силой, перевернувшей политическое поле Финляндии. Всего через несколько интенсивных месяцев его деятельность практически прекратилась. Помимо наглого стиля действий, союз получил негативную огласку из-за запутанного сбора средств, который олицетворял Еремиас Косонен. Как и многих других радикалов, Косонена можно охарактеризовать как оппортуниста, чьему националистическому энтузиазму предшествовало пестрое и противоречивое прошлое. В годы угнетения он был доносчиком жандармов. В начале 1917 года Косонен получил от жандармского ведомства задание выяснить информацию о егерском движении, завербовавшись в егеря.
Однако из егерского батальона Косонена из-за подозрений в шпионаже отправили в трудовой лагерь; в Финляндию он вернулся только осенью 1918 года. Чтобы компенсировать унизительный опыт, он присоединился к финскому добровольческому отряду, сформированному для Освободительной войны в Эстонии. За месяц он дослужился до лейтенанта и продолжил военную карьеру в эстонской армии после того, как другие финские добровольцы вернулись в Финляндию. В Финляндию Косонен приехал только в 1921 году, после чего зарабатывал на жизнь поиском рекламодателей.
Косонен умел «врать как агент». Он умел убеждать своих слушателей и менять рассказ в зависимости от ситуации. Летом 1929 года он разъезжал по белым кругам, собирая деньги то от имени Союза Ла́лли, то от имени Союза фронтовиков Освободительной войны. Он собрал значительные суммы, от которых ни Союз Ла́лли, ни Союз фронтовиков не увидели и следа. Летом Косонен разъезжал по району Лохья и встретил Х. В. Бякмана, который был одним из самых видных муниципальных деятелей региона. Косонен заверил, что собирает деньги на государственный переворот, который должен был состояться осенью того же года. Он получил от Бякмана несколько тысяч марок и просьбу привлечь к делу «местных деятелей». Что-то об атмосфере того времени говорит тот факт, что Бякман не стал ставить под сомнение этот проект и не счел проблематичным упомянуть об этом, беседуя с начальником Центральной сыскной полиции позже осенью. Единственное, что расстраивало Бякмана, это то, что рассказы Косонена оказались ложными. 165
Хотя информация о незаконном сборе средств быстро распространилась, Косонен продолжал свою деятельность. Наконец, Союз фронтовиков Освободительной войны сообщил об этом в полицию. Осенью 1929 года Косонен был пойман. Его обвинили в мошенничестве, растрате и подделке документов. Отягчающим обстоятельством было сочтено то, что Косонен использовал «общественно-полезные организации» и злоупотреблял «доброй волей» людей. Косонен в суде громко удивлялся, как организации, замышляющие против общественного порядка — Союз Лалли и Союз фронтовиков Освободительной войны — могли быть охарактеризованы как общественно-полезные.
Не прошло и года с момента основания Союза Лалли, как его деятельность окончательно подошла к концу. К тому времени ключевые фигуры союза были под следствием за растрату и подделку документов. Главному финансисту движения и ответственному за издательскую деятельность Похьянхеймо грозил приговор за преступление против нравственности. Последний скандал, связанный с союзом, произошел в декабре 1929 года. В Лапуа только что состоялось народное собрание, приведшее к возникновению Движения Лапуа, и Вихтори Косола с лидерами нового народного движения прибывал в столицу, находясь в центре всеобщего внимания. Члены-основатели союза Саламаа и Каарло Калерво решили воспользоваться моментом. В провокационных целях они напечатали поддельные листовки «красного повстанческого руководства», которые раздавали в городе, когда толпы собрались посмотреть на гостей из Лапуа. Целью было спровоцировать насилие и беспорядки, которые, возможно, привели бы к введению чрезвычайного положения и тем самым укрепили бы позиции Движения Лапуа. 166
Союз Лалли был обреченной на провал попыткой добиться политических изменений. Союз потерпел неудачу во всех своих начинаниях и умудрился разозлить как своих врагов, так и друзей. Однако он стал генеральной репетицией рождающегося Движения Лапуа, в ходе которой для возбужденных настроений еще искали правильную форму. Одни и те же люди вращались в кругах Союза Лалли, Союза фронтовиков Освободительной войны и Движения Лапуа. Запланированный союзом марш белой Финляндии на Хельсинки также не остался в истории незначительной угрозой, а осуществился всего год спустя. Символ медведя Союза Лалли стал общим знаком финского национального радикализма.
Ключевые фигуры Союза Лалли продолжили заниматься политикой. Ниило Раувала стал лидером партии, когда после многих перипетий основал Финскую партию труда. Арви Калста стал лидером национал-социалистической Народной организации Финляндии, а Антти Саламаа — членом той же партии. Леннартти Похьянхеймо продолжал свою яростную борьбу против шведоязычного населения и писал в свою газету статьи, восхваляющие национал-социализм.
Хотя Похьянхеймо остался в стороне от национал-социалистической организационной деятельности, он еще раз ненадолго появился на страницах газет в 1930-х годах. Выяснилось, что с 1933 года он содержал собственную небольшую радикальную группу, которая собиралась в адвокатской конторе Похьянхеймо на Кайсаниеменкату в Хельсинки. В группу входило около десяти человек, в основном безработные и разочарованные ветераны белой армии. Среди них был некий Экстрём, известный как большой пьяница, который состоял в Свободном союзе моряков и Свободном союзе рабочих, а также доброволец эстонской войны Вальтер Яяскеляйнен, который был членом еще одной организации фронтовиков, Комитета по безработице белых братьев по оружию. 167
На своих собраниях мужчины, игравшие в военный ударный отряд, под руководством Похьянхеймо знакомились с военными объектами Карельского перешейка и окрестностей Ленинграда, а также с секретами партизанской войны. Последний проект Похьянхеймо остался незначительным, но он отражал атмосферу 1930-х годов, в которой под влиянием национал-социализма создавалось огромное количество всё более ничтожных радикальных группировок.
Еще раз, ребята! – Союз фронтовиков Освободительной войны
«Боевое братство, заключенное на полях сражений, во все времена считалось почти нерушимой связью», — писал редакционный секретарь «Аамулехти» Ээро Рекола. Он имел в виду армии мировой войны и организации фронтовиков, основанные позже на базе военного боевого братства:
“Мужчины, закаленные в одних и тех же боях, чувствовали, что принадлежат к одной группе, образуют свою собственную группу в обществе, группу, в которой царил очищенный в горниле битв дух самоотверженности и которой были чужды мелочные ссоры и второстепенные политические разногласия.” 168
В финской Освободительной войне, продолжал Рекола, были заключены такие же узы. Он знал, о чем говорил, так как после окончания средней школы Рекола в рядах курсантов военной школы Вёйри участвовал во взятии Тампере. После окончания гражданской войны в Финляндии Рекола еще был добровольцем в Эстонии и Олонце.
“Но теперь проверенные на фронте узы братства по оружию понадобились вновь : толчок дал весьма широко распространившийся коммунизм, который в пугающей степени стал угрожать свободе, завоеванной фронтовиками для своей страны и своего народа. Когда бывшие красногвардейцы и примкнувшие к ним предательские силы все более нагло стали подрывать основы нашего молодого государства и одновременно подвергать самой беззастенчивой травле и террору бывших бойцов армии Освободительной войны, пробудились патриотически настроенные граждане. Фронтовики поняли, что Освободительная война еще не доведена до конца. Там и сям в разных частях страны был поднят вопрос об объединении фронтовиков для борьбы в первую очередь именно против предательских сил.” 169
Слова Реколы были манифестацией общеевропейского «фронтового духа». И то, что последовало за этими словами, ничем не отличалось от предыдущих событий в остальной Европе.
Субботний вечер февраля 1929 года сгущался на улице Кунинкаанкату в Тампере. В расположенном на ней Финском клубе собралась группа ветеранов Освободительной войны. Самым заметным из них был начальник охранного корпуса Северного Хяме, егерь-майор Онни Пурхонен. В его компании были журналист Ээро Рекола, коммивояжер и заместитель директора акционерного общества «Paperipussitehdas ja Kauppa Osakeyhtiö» , егерь-капитан Иивари Хюппёля и директор обувной фабрики Ювонена, егерь-капитан Арви Калста. 170
По сравнению с Реколой остальные были настоящими ветеранами: Пурхонен, Калста и Хюппёля были егерями, получившими боевое крещение в мировой войне, все представители самого первого егерского отряда, пфадфиндеров (pfadfindereitä). И Хюппёля, и Калста командовали в гражданской войне батальоном. Оба уволились из армии вскоре после гражданской войны и пошли своими путями: немного охранных корпусов, немного походов в родственные земли, немного того и сего. Теперь в программе была и политика. Пурхонен, по сравнению с Калстой и Хюппёля, был человеком казенного хлеба. Он все время после возвращения егерей в Финляндию служил в армии, затем на должностях в генеральном штабе охранных корпусов и начальником нескольких охранных корпусов. Пурхонена можно считать организатором; в течение 1920-х годов он организовал и руководил тремя охранными корпусами. Итак, на месте были организатор, пропагандист и две души, полные энтузиазма к действию. Все были нужны.
Основным содержанием обсуждений на собрании было то, что белые ветераны должны были организоваться. Арви Калста представил программу немецкой ветеранской организации «Стальной шлем» и предложил ее в качестве организационной модели для финской братской организации по оружию. В руках у мужчин был также набросок организации, объединяющей фронтовиков, от сатакунтского активиста Каарло Вильхо Хухталы. Хухтала был торговцем и фермером из Каасмаркку, по образованию — строительный мастер. Слава, добытая на сатакунтском фронте, была настолько велика, что местные обиды и ненависть привели даже к покушению на убийство Хухталы в 1920-х годах. Местный опыт лежал в основе энтузиазма Хухталы в создании ветеранской организации; он также стал одним из ключевых деятелей Лапуаского движения в Сатакунте .171
Союз фронтовиков Освободительной войны в конце мая 1929 года организовался в общенациональный союз. Пурхонен стал первым председателем организации. Правление из шести членов стремились сформировать с учетом всей страны, но заместители членов правления были либо из Тампере, либо «иначе подходящими». Союз фронтовиков и его газета «Фронтовик» стали характерным голосом белого Тампере. Ключевой финансист проекта, коммерции советник Рафаэль Хаарла, присутствовал в качестве громкого компаньона или действовал через своего сына Эйно Хаарлу, который был членом правления и председателем союза.
В то время как Академическое Карельское Общество объединяло студенческую молодежь за националистическим радикализмом в университетах и гимназиях, Союз фронтовиков Освободительной войны быстро вырос в организацию, объединяющую неакадемических ветеранов. Через несколько месяцев он охватил уже всю страну. В 1939 году в союз входило более двухсот местных отделений, в которых насчитывалось более двадцати тысяч членов. Вскоре был основан и женский отдел, Женский союз фронтовиков Освободительной войны (VRN).
Из широкого круга членов, безусловно, лишь часть испытывала тягу к фашизму. Многие участвовали в основном из-за неполитической ветеранской деятельности, собирались на памятные мероприятия или участвовали в социальной помощи союза. Однако твердое ядро союза состояло из активистов жесткой линии, которые хотели изменить общество по образу своих идеалов. Союз фронтовиков Освободительной войны стал великой неизвестной политической силой 1930-х годов. Он, вероятно, был замешан в большем количестве попыток национальных революций, чем любое другое политическое движение в Финляндии между мировыми войнами. Несмотря на это, это плохо известная, даже считающаяся совершенно неполитической организация.
Неполитичность и гендерная специфика подчеркивались в Женском союзе фронтовиков Освободительной войны, деятельность которого была сосредоточена на «помощи нуждающимся семьям фронтовиков». Подобно деятельности Карельского общества студенток (NYKS), направленной на помощь беженцам из Восточной Карелии и Ингерманландии и работу в приграничных районах, работа VRN также ограничивалась благотворительностью рядом и в тени мужской организации. 172
Конечно, и благотворительная работа имела политическое измерение. Женщины-фронтовички приобретали для подопечных семей домашний скот, ремонтировали жилые дома и даже предотвращали принудительные аукционы, выкупая жилье неимущих семей фронтовиков. Целью помощи было не только помочь самым слабым в своем кругу, но и предотвратить политическое сползание влево тех, кто находился в трудном экономическом положении. В энтузиазме женщин из AKS по поводу приграничных районов прослеживался тот же мотив: помощь жителям приграничных районов Карелии и Кайнуу, находящимся в тяжелых условиях, была одновременно и защитой границ нации, укреплением «восточной стражи».
В обязанности членов как VRN, так и NYKS, прописанные в уставах, входила работа в организации «Лотта». У студенток был свой отряд «Лотта», который в Хельсинки в лучшие времена насчитывал до полутора тысяч членов. В годы войны организация даже требовала в качестве общего квалификационного требования для всех студенток как минимум полугодовую «воинскую обязанность», службу в качестве фронтовой «Лотты». 173
На практике речь шла об обязательном членстве в «Лотта Свярд», что еще больше сплачивало коллектив: те же женщины и мужчины участвовали в деятельности AKS, охранных корпусов, «Лотта Свярд» и Союза фронтовиков Освободительной войны. Само по себе это не делало женские организации радикальными, но тесные сообщества еще больше идеологически сплачивали белую Финляндию. «Лотта Свярд» была неотъемлемой частью Финляндии охранных корпусов. Деятельность «Лотт», конечно, уже изначально была направлена на поддержку охранных корпусов , поэтому их роль как тыловых частей охранных корпусов как в крестьянском марше, так и в мятеже в Мянтсяля и во многих других поворотных моментах объяснялась уже через командные отношения.
Расклад был ясен. Мужчины руководили, женщины сплачивали белый круг националистического радикализма. Характерным примером этого расклада является порядок, связанный с основанием VRN: для успеха работы, охватывающей всю страну, было важно держать деятельность женских отделений подчиненной «руководству центрального органа, действующего под контролем правления VRL». Как и в организации охранных корпусов, роль женщин заключалась в том, чтобы оставаться под контролем и руководством мужчин в качестве закрытого отделения, чья сфера деятельности была строго по-военному ограничена.
Хотя Союз фронтовиков Освободительной войны также занимался делами ветеранов и инвалидов, отправные точки союза были явно политическими. Это хорошо видно уже из первого текста К. В. Хухталы, в котором он набрасывал контуры союза. В нем «ослабление обороноспособности страны стало для партий «политическим трамплином» в ситуации, когда «заграничные иваны, ликуя, подстрекают в нашей стране все нарастающий, угрожающий нашей религии, государственный и предательский грохот деятельности здешних товарищей». Для отражения угрозы ветеранская организация должна была высказать свое порицание «усердию межпартийной игры парламентских фракций или политической торговли по принципу «и так сойдет», а также вялому надзору за всякого рода революционным подстрекательством и интригами» .174
Основной целью Союза фронтовиков Освободительной войны было противодействие деятельности революционных — то есть как минимум коммунистических и социал-демократических — организаций и действия по их полному запрету. В качестве одного из средств предлагалось изменить муниципальный и государственный порядок выборов, чтобы вредящие обществу и открыто коммунистические силы не могли влиять на принятие политических решений. Ключевым пунктом политики союза на рынке труда было «обеспечение трудового мира для белого рабочего». Культурно-политическая программа подчеркивала национальную историю и сохранение патриотических ценностей, памяти об активной борьбе в годы угнетения и об освободительной войне. 175
В преддверии парламентских выборов 1933 года имелись признаки превращения движения в политическую партию; ведь так уже произошло с ветеранской организацией эстонской освободительной войны. Газета «Фронтовик» выдвигала кандидатов, состоявших в организации фронтовиков, и призывала своих членов голосовать за фронтовика. Рафаэль Хаарла вел кампанию за корпоративную модель общества и выступал против всеобщего избирательного права и парламентаризма. В программу союза было даже внесено требование об изменении избирательной системы таким образом, чтобы результаты «лучше соответствовали истинной воле сохраняющего общество, патриотического народа». Проще говоря, это означало, что избирательное право хотели отнять как минимум у левых.
В Союзе фронтовиков Освободительной войны верили, что ветераны белой армии смогут лучше других привести страну в новое, лучшее время. План следовал знакомым революционным путем. Демократия, либеральные ценности и капитализм в конечном итоге привели бы страну к чрезвычайному положению. Тогда «слабая партийная жизнь» была бы заменена «фронтовым братством», которое стало бы основой для однопартийной системы. Переход к новой системе, содержавшей ключевые идеи фашизма о государстве, разделении власти и экономике, произошел бы либо насильственно, либо мирно. Все зависело от того, насколько хорошо финны к нужному моменту усвоили бы «ненаписанную партийную программу тех, кто устремился на освободительную войну». 176
Положение Союза фронтовиков Освободительной войны как объединяющей силы на радикальном поле подчеркивалось его сознательной двуязычностью и оттеснением языкового спора на задний план. Как и среди финноязычных, в ряды шведскоязычных финских радикалов входили вдохновленные Лапуаским движением фермеры, разочарованные герои времен борьбы за независимость, ненавидящие левых промышленные лидеры, а также представители интеллигенции, приверженные риторике о гибели Запада. Часть с пониманием относилась к стремлениям финноязычных создать унитарное государство, в то время как другие находили в расовой доктрине национал-социализма поддержку в своей борьбе за положение шведскоязычных финнов. Для этого направления нашлась старая основа в расовых учениях и иерархическом мышлении крайнего крыла раннего шведского движения.
В то время как одни увлекались национал-социализмом без финско-национальной приставки, другие стремились адаптировать свою шведскоязычность к преимущественно финноязычному организационному полю. Это могло происходить либо путем интеграции во имя живого двуязычия, либо путем создания отдельных языковых пространств внутри организаций. В Союзе фронтовиков Освободительной войны в бой шли раздельно, но вместе. Шведскоязычные создали свою собственную параллельную деятельность с местными отделениями, газетами и уполномоченными. На степень радикализма это не влияло. Как и финноязычные части организации, Frihetskrigets Frontmannaförbund также находился в крепких руках радикалов. 177
Союз фронтовиков Освободительной войны был как по своей экономической основе, так и идеологически во многих отношениях творением Рафаэля Хаарлы. То, что союз, несмотря на непредсказуемого Хаарлу, превратился в серьезную силу, было совершенно очевидно следствием того, что «хаарловские» политические идеи имели более широкую поддержку. Великое десятилетие националистического радикализма приближалось к своей кульминации, и его самые ярые сторонники наконец собрались под своими знаменами, готовые к действию.
VI
Равнина движется на автомобиле. Подъем Лапуаского движения
Слово мужа, имеющего право
защищать свою родину,
суровое, прямое, безусловное требование:
Поборников чумы — за границу!
Хейкки Асунта: Страстная пятница(1934)
В народной школе церковной деревни Лапуа в начале 1890-х годов преподавал известный своей строгостью старый псаломщик прихода Яакко Валленберг. Один из застенчивых мальчиков его школы знал свой предмет исключительно хорошо. Псаломщик посадил мальчика к себе на колено и похвалил: «Этот мальчик знает Катехизис от корки до корки!» Возможно, в похвале была и толика жалости, ведь псаломщик знал, что отец мальчика сидел в тюрьме, а семья жила в стесненных материальных условиях. Но для маленького мальчика это событие стало сильным впечатлением. Им восхищались. 178
Это был один из ключевых опытов в жизни Вихтори Косолы. И в дальнейшем Вихтори учил свои уроки и умел эффектно их преподносить. Начало жизни, однако, не сулило ничего хорошего: отец, Иисакки, приобрел типичную для Южной Похьянмаа известность, забив до смерти человека на ярмарке безменом. Пока Иисакки отбывал одиннадцатилетний срок в Вааской тюрьме, его жена и младший ребенок умерли. Освободившись, Иисакки нашел новую жену и у него родилось восемь детей, из которых Вихтори был старшим. Когда отец умер, Вихтори пришлось в 17 лет взять бразды правления хозяйством в свои руки. В доме, конечно, были батраки, которые выполняли работу, и с точки зрения хозяина они жили в равенстве: признаком этого аграрно-общественного равенства было то, что семья и работники ели за одним столом. 179
В жизни было много работы, но и развлечений: Вихтори играл на басовой трубе в духовом оркестре, выступал в постановках молодежного общества и активно участвовал во всевозможной деятельности. Забастовки против призыва 1902 года стали для Вихтори Косолы первым соприкосновением с государственными делами. Во время призывных забастовок он впервые столкнулся с группой людей, мыслящих о политической ситуации в том же направлении, чьи решительные действия стали вторым ключевым опытом для Косолы. Единый народ не сломить!
Свободный крестьянин
Решающим для политического мышления Косолы, по-видимому, стал кружок интересующихся государственными делами молодых деревенских парней, «общество лентяев», которое, по словам Косолы, сосредоточилось на наблюдении за политической ситуацией и ее обсуждении. Косола представлял то националистически воспитанное крестьянское юношество, которое с конца 1880-х годов стало объектом патриотического воспитания. Как побочный продукт любви к родине он усвоил и русофобию, и недоверие к рабочему движению, политическому процессу принятия решений и чиновникам. Эти установки также хорошо вписывались в идейный арсенал националистического радикала.
Косола стал центральной фигурой в вербовке егерей в Южной Похьянмаа. В конце концов его на этом и поймали. Причиной ареста, вероятно, была скорее собственная неосторожность Косолы, чем способность жандармов раскрывать тайные маршруты. Косола стал «решеточным егерем» в петербургской Шпалерной тюрьме вместе с Кюёсти Вилкуной и Эско Риекки. Оттуда он освободился только после того, как Мартовская революция 1917 года свергла царское правление.
Политическое пробуждение начала века означало для Косолы углубление русофобии; заключение окончательно сделало ее центральной частью мышления Косолы. Ключевым словом было «рюсся» (ругательное название русских), которое всегда произносилось с сильным отвращением. Власть «рюсся» означала вмешательство в дела свободолюбивого финна — образцом которого для Косолы был южнопохьянский крестьянин — таким образом, который оскорблял независимость и свободу. Против этого следовало действовать и такими методами, которые при необходимости выходили за рамки приличий как законов, так и политики. Когда политики показали свою слабость, народ должен был взять бразды правления в свои руки:
“Уже в начале лета [1917] активистским кругам было ясно, что отделение страны от России, несмотря на революцию, не произойдет в качестве подарка от «рюсся»… Именно это вооруженное восстание нужно было организовать сейчас, если когда-либо. На тот момент не было никаких гарантий, что финские государственные деятели осмелятся предпринять решительные действия даже для того, чтобы поднять вопрос о независимости дипломатическим путем. Таким образом, решение должно было оказаться в руках самого народа.” 180
Война 1918 года была для Косолы войной за независимость. В интерпретации Косолы, худшие элементы народа присоединились к заклятому врагу, как и можно было предвидеть еще в конце 1917 года:
“Красные на юге уже совершали свои известные грабежи в сельском хозяйстве и даже частные кровавые преступления. Братание с разгуливающими по стране «рюсся» с каждым днем становилось все более заметным.” 181
Логическим следствием русофобии и антикоммунизма в мышлении Косолы было противостояние всему левому политическому крылу. Рабочее движение вело к национальному расколу, что с точки зрения националистического мышления было нежелательно. По мнению Косолы, никакие группы интересов рабочих не были нужны, поскольку все и так работали на благо единого национального целого. Моделью социальной политики служил большой стол в избе Косолы, за которым хозяева и батраки сидели и ели вместе: если работник вел себя хорошо, не воровал и не ленился, то и хозяин был хорош. И что самое лучшее, власть была в одних руках. 182
Эпоха однопалатного парламента для Косолы и многих его единомышленников показала слабые стороны политики. Народ ужасающим образом разделился на борющиеся между собой партии по классовым и групповым интересам. Политическое принятие решений было медленной болтовней, которую приправляли партийные газеты, беззастенчиво очернявшие противников.
Как и многие пламенные националистически настроенные активисты за независимость и участники Освободительной войны, Косола испытывал разочарование и недоверие в послевоенной Финляндии. Работа в шюцкоре, деятельность в организации штрейкбрехеров и политическая возня в узком кругу своих создавали питательную среду для мышления и сетей, на которых строилась самая радикальная часть белой Финляндии. Случайно в ноябре 1929 года Косола стал самой заметной фигурой в своих кругах.
Красные рубашки, черная земля
Сначала не происходило ничего особенного. Потом начало происходить, когда заставили происходить.
Парламентские выборы летом 1929 года были успешными для правых. В воздухе витал сильный антикоммунистический настрой, так как все буржуазные партии в своих предвыборных программах требовали мер против коммунистической организационной деятельности. Особенно сильное общественное давление было направлено на находящуюся в руках коммунистов Центральную организацию профсоюзов Финляндии. После выборов казалось все более вероятным, что новый парламент ее распустит.
Разногласия между социал-демократами и коммунистами обострялись в течение года и привели к окончательному кризису внутри Профсоюзной организации. В конце сентября социал-демократическая партия решила выйти из организации и собрать своих сторонников в новую центральную организацию. По всей стране организовывались митинги протеста. В Ваасе и Вейтсилуото дошло до рукопашной, когда полиция пыталась разогнать демонстрацию Центральной организации профсоюзов Финляндии. Оставшаяся в руках коммунистов организация продемонстрировала свою силу, объявив в середине ноября однодневную забастовку протеста. Ею поддержали голодовку политических заключенных в каторжной тюрьме Таммисаари. В накаленной атмосфере учебное объединение молодых рабочих Лапуа решило организовать в конце ноября в Лапуа праздничное состязание для рабочей молодежи Вааской губернии. 183
Школьники сначала подглядывали в окна, но затем незаметно проскользнули через дверь в прихожую и в зал. Сцена была украшена красными флагами. Лозунг, нарисованный на транспаранте, призывал всех под красное знамя. Шло какое-то декламационное выступление; позже кто-то назвал его «Красной Финляндией». Серьезный хор молодых женщин и мужчин гремел:
“Мужчины: Ты видишь хищную рысь на холмах Финляндии. И с пасти ее капает грязная слюна. Дикий звериный оскал видишь на ее губах. И глаза, жаждущие добычи, вращаются в голове. Все: Это Маннергейм. Верный приспешник юнкеров. Это палач финского пролетариата.
Женщины: Белая Финляндия купается в волнах явной крови. И меч окровавленный в твоей руке. Ты омоешь его в слезах сирот и вдов, услышь, как матери Финляндии оплакивают своих детей.” 184
Программа была прервана, когда самодельные сероводородные бомбы, изготовленные в химической лаборатории лапуаской средней школы, наполнили сцену и зал рабочего дома сочным запахом пердежа. Когда старшеклассники попытались сорвать рубашки с выступавших мужчин, пристав Юрьё Никула счел за лучшее прервать вечер. Вечером несколько энтузиастов еще ждали ночного поезда из Ваасы. Когда краснорубашечники попытались выйти на перрон, их затолкали обратно в поезд: «Не сюда, езжайте в Каухаву!» Беспорядки, однако, не заставили учебные объединения отступить. На следующий день было решено продолжить собрание.
После церковной службы в Судное воскресенье в церковной деревне было многолюдно. С наступлением сумерек во дворе рабочего объединения собрались местные хозяева с сыновьями. Когда показалось, что внутри снова начинается вчерашняя программа, большая толпа, стоявшая во дворе, во главе с фермером Вихтори Косолой, вошла внутрь. Косола потребовал немедленно прекратить мероприятие и снять красные рубашки. Несколько красных рубашек удалось сорвать, но потасовка прекратилась с появлением пристава.
Выходящая в Сейняйоки газета «Илкка» в понедельник, 25 ноября, прокомментировала произошедшую накануне в Лапуа потасовку между местными жителями и «коммунистической молодежью» в виде небольшой заметки в одной колонке. В и без того напряженной атмосфере ноября это событие не показалось чем-то удивительным. В Пори-Вейтсилуото во время беспорядков, устроенных Центральной организацией профсоюзов Финляндии, уже даже мелькнул нож. Во многих газетах это была более крупная новость, чем лапуаская стычка. 185
Однако стычка в Лапуа приобрела совершенно новые масштабы два дня спустя, когда рассказ пристава Никулы о ходе событий наконец дошел до губернских газет. Это не было случайностью, так как Никула входил во внутренний круг Лапуаского движения. «Хельсингин Саномат» взяла интервью у известного лапуасца, фермера Вихтори Косолы, который дал впечатляющее описание событий:
“На своем собрании коммунисты намеревались произносить пламенные речи против родины и общества и заниматься откровенным богохульством. Когда в связи с этим местная полиция призвала их прекратить собрание и покинуть место его проведения, коммунисты не подчинились призыву… Когда коммунисты не захотели уходить, местные жители просто-напросто очистили помещение… раз они не ушли по-хорошему, это привело к рукопашной, в которой в качестве оружия использовались голые кулаки. Правда, что у коммунистических мужчин тогда сорвали красные рубашки и большевистские кокарды, но женщин-коммунисток, у которых тоже были красные блузки, похожие на блузки девушек-скаутов, вообще не тронули.” 186
Настал момент для движения; теперь начали действовать люди из организации «Виентирауха» (Экспортный мир). Хозяин хутора Кустаа Тииту, который был представителем «Виентирауха» в Лапуа, поднял по тревоге главного редактора «Илкка» Арттури Лейнонена: по всей стране нужно было организовать гражданские собрания для прекращения деятельности коммунистов.
Гражданские собрания: наконец-то что-то происходит!
При организации гражданских собраний использовалась не только сеть «Виентирауха», но и формирующаяся сеть объединений фронтовиков Освободительной войны: первые ключевые собрания проводились в городах, где эти организации либо уже существовали, либо находились в стадии создания. Пресса сыграла важную роль в организации гражданских собраний и в получении общественного одобрения для этой деятельности. Особенно тампереский печатный орган Коалиционной партии «Аамулехти», казалось, в эти дни был просто в огне: наконец-то что-то произойдет.
Быстрее всех на народное восстание отреагировали карелы. Уже в последний день ноября в Сортавале состоялось первое гражданское собрание. Оно отправило свое решение в виде многозначительной по формулировкам телеграммы в Лапуа:
“Будущее нашего народа было бы безнадежным, если бы финская кровь не вскипала при виде подлости осквернителей родины. В январе 1918 года сердца мужчин Похьянмаа и Карелии бились в сильном единении, и так же сейчас. Закон чести — это закон мужчины.” 187
Телеграмма, отправленная правительству республики, напротив, была понятна и самому медлительному:
Деятельность коммунистов в стране должна быть прекращена.
Несколько слишком поспешно организованное гражданское собрание в Сортавале показало, что в националистических кругах произошла радикализация. Энтузиазм также показал, что у движения существовали готовые планы для антикоммунистической деятельности. «Спонтанное народное восстание» на самом деле было хорошо организованным маневром. Белый народ, который основательно «подогревали» в течение 1929 года, теперь удалось поднять широким фронтом. 188
После Сортавалы гражданские собрания были организованы в большинстве городов; среди первых были Котка, Куопио, Савонлинна, Хельсинки, Миккели, Хямеэнлинна и Тампере. Председателями собраний были ключевые, часто уже среднего возраста, фигуры местной деловой жизни и политического руководства. Председателем собрания в Котке был директор одного из крупнейших работодателей Кюменлааксо, «Халлан Саха Ою», Каарле Брофельдт, секретарем собрания — директор банка, заместитель судьи Оке Кюандер. В Миккели собрание вел директор банка, член городского совета, заместитель судьи Калле А. Раэваара, в Савонлинне — директор банка Йон Раясало, собрание в Тампере вели два самых видных работодателя города: генеральный директор «Тампереэн Пуувиллатеоллисуус Ою» Магнус Лавониус и созыватель собрания, инженер Эйно Хенрик Лильероос, который был директором суконной фабрики «Аб Ф. Клингендаль & Ко». 189
В Хямеэнлинне созыватель собрания, начальник окружного шюцкора Эрнести Суолахти, считал, что страна находится на грани новой гражданской войны и что положение в стране «сильно напоминает ситуацию в то же время в 1917 году». Нация была в опасности, и поэтому народ должен был снова восстать против врага. Народное восстание должно было стать своего рода повторением Освободительной войны. Вначале казалось, что за формирующимся народным движением встанут все буржуазные круги. Среди сторонников начального этапа были люди из всех партий от центра до правых. В Хямеэнлинне руководство движением также подчеркнуто находилось в руках влиятельных лиц из шюцкора, местной элиты делового мира и чиновничества. Самым существенным — и в то же время самым пугающим — была, однако, связь народного движения с «нейтральной» организацией обороны страны, шюцкором. 190
Наибольшее внимание, по сообщениям газет, привлекло собрание в Лапуа 1 декабря 1929 года, собравшее целых три тысячи граждан. Это был публичный прорыв Вихтори Косолы. Косола, чью речь цитировали вдоль и поперек аграрная и правая пресса, перечислил преступления финского социализма, начиная с беспорядков лета 1917 года. Ничего не было забыто:
Затем он рассказал о сенаторе Оскари Токое, который произносил патриотические речи о независимости Финляндии в то же время, как его посланники между ним и Москвой продавали страну России. Даже после Освободительной войны эти же элементы смогли поднять голову и явиться сюда в своих красных рубашках.
После того как Косола в своем сочном южно-похьянском стиле рассказал о срывании красных рубах, он перешел к главному. Чтобы такие беспорядки не повторялись, деятельность коммунистов должна быть прекращена:
В Германии есть закон о защите республики, который запрещает любое собрание, направленное на изменение государственного строя, и прочую подобную агитацию, чего-то подобного нам бы тоже хотелось.191
Затем Косола представил резолюции, в которых требовалось распустить Коммунистическую партию Финляндии и все ее формы деятельности и органы, а также удалить коммунистов из парламента. В публичном слове требовалось прекратить всяческое поношение и очернение того, «что является основой и фундаментом нравственного и правового сознания финского народа». Декларация Лапуа завершалась заявлением, которое можно было истолковать скорее как угрозу:
…собрание в заключение заявляет, что если государственная власть не предпримет вышеуказанных мер, есть самые серьезные основания опасаться, что она потеряет инициативу в сдерживании и управлении ситуацией.
Резолюции других гражданских собраний были схожи по содержанию. Требования и угрозы приобретали дополнительную силу, когда они сыпались с разных сторон в одинаковом виде. С собрания в Лапуа правление Союза фронтовиков Освободительной войны также отправило телеграммой правительству Кюёсти Каллио требование запретить деятельность коммунистов. Делегация Лапуаского движения, организованная в спешном порядке, представила все резолюции правительству страны на следующий день, в День независимости. Ошеломленное давлением, созданным народным движением, правительство начало ужесточать законы; закон об обществах был ужесточен, и началось ограничение свободы печати. Только изменение закона об обществах было принято, для остальных в парламенте с точки зрения националистических радикалов было еще слишком много левых. Впереди была неспокойная весна.
Срывание красных рубах в Лапуа стало большим событием, потому что из него сделали такое. На самом деле лапуаская стычка была обычной для того времени мелкой потасовкой. Символически, однако, она была заряжена смыслами. Два мира столкнулись в Лапуа: южно-похьянский, крестьянский, пиетистский и националистический мир столкнулся с городским, пролетарским, международным и коммунистическим. Источниками горечи и ненависти с обеих сторон были опыт 1918 года и, казалось бы, непримиримые разногласия в их значении.
С точки зрения национального радикализма, лапуаская стычка была удачей. Она дала необходимый стартовый импульс движению, которое постепенно в течение трех лет обрело имя, лицо и различные фоновые организации. Пресса распространила идеи Лапуаского движения для всеобщего прочтения эффективнее, чем можно было мечтать. Распространенная информация упала на благодатную почву: с точки зрения тех, кто относил себя к политическому центру и правым, это было немного чересчур, но ведь цели были благие. Недовольство, вынашиваемое в ограниченных кругах, внезапно превратилось в национальную заботу, одобренную широкими гражданскими кругами, и стало движущей силой народного движения. Внезапно большая часть нации, казалось, стояла за народным движением. Настал момент, когда все двери были открыты.
«Священную ненависть нужно превратить в дела»
15 марта 1930 года по перрону вокзала в Лапуа шагали уверенные в себе мужчины. Начиналось собрание представителей патриотического движения. Антикоммунизм перерос в движение, охватившее всю страну, а Вихтори Косола стал всем известной влиятельной фигурой. Делегации из Лапуа уже представлялись в цитаделях власти в Хельсинки, и от имени народного движения по всей стране организовывались гражданские собрания. Теперь движение вернулось в Лапуа. Пришло время организоваться и усилить деятельность. По словам газеты «Вааса», речь шла об «укреплении общественного духа как ответном и очищающем белом огне для нынешней партийной политики».192
Тот факт, что народное движение оказывало давление на избранный парламент и направляло правительство страны, казалось, не беспокоил газету. Начинающееся собрание называли теневым парламентом и говорили о Лапуаском сейме. Официально это было собрание представителей, избранных на гражданских собраниях, организованных во имя антикоммунистического движения. Оргкомитет собрания под руководством старого активиста Кая Доннера объявил, что цель — обсудить «те меры, которые необходимо предпринять для искоренения коммунизма». 193
Расстановка сил была ясна с самого начала. Внутри народного движения шла борьба за границы радикализма движения. Конечно, радикальные выступления звучали уже на первых собраниях движения несколькими месяцами ранее. Тогда самые радикальные, как, например, строительный мастер Ахто Сиппола, который требовал вооруженного похода на Хельсинки, остались со своими предложениями в одиночестве. За зиму напряжение возросло, и все больше людей склонялось к радикализму. Общий настрой в «Сеурахуоне» Лапуа теперь требовал активной гражданской деятельности для оказания давления на медлительный и левацкий парламент: «Священная ненависть, вспыхнувшая четыре месяца назад, должна быть превращена в дела».
Вихтори Косола, ставший знаковой фигурой народного движения, открыл собрание, после чего председателем был избран Арттури Лейнонен. Вступительная речь была защитой умеренной линии. Лейнонен подчеркнул, что «цель не в том, чтобы оказывать насильственное давление на государственные органы», движение «будет строго придерживаться законной основы». Однако дискуссия не продолжилась в том тоне, на который надеялся Лейнонен.
Среди следующих выступающих был врач из коммуны Виитасаари и майор-егерь Гуннар фон Гертцен, легендарный командир Олонецкого похода и признанный сторонник жесткой линии. В своей родной коммуне он основал «Патриотический клуб Виитасаари», чьи брошюры нападали на евреев, масонов и либералов.194
Теперь Гертцен требовал в Лапуа перед двумястами делегатами, чтобы патриотический народ показал, что он способен защитить свою страну и «быть достойным независимости». Народное движение следовало организовать в эффективную структуру, которая охватила бы всю страну и позволила бы наносить удары для сокрушения деятельности коммунистов во всех населенных пунктах. Коммунистов следовало убрать из парламента либо путем изменения избирательного закона, либо силой. Еще резче Гертцена выступил фабрикант Рафаэль Хаарла, который в своем выступлении полностью раскритиковал проведение собраний и составление деклараций. Парламент не станет менять законы: по мнению Хаарла, пришло время перейти к прямым действиям.
Первый день собрания завершился народным праздником, организованным в лапуаской средней школе. В воскресенье утром участники собрания собрались в церкви. Настроение второго дня собрания подогревали проповедь настоятеля лапуаской церкви К. Р. (Каарло Риетрикки) Кареса и сбор у могил героев Освободительной войны. Выступления приобрели еще более радикальный оттенок. «Есть ли у нас время давать врагу возможность вооружиться?», — спросил у аудитории пастор Отто Корпи-Яакко. Теперь требовалось больше духа, чем политической мудрости: «Нам должно быть достаточно того, что мы знаем, что перед нашей родиной и Богом мы отстаиваем правое дело. Красный флаг с серпом, возможно, уже приближается к нашей стране».
Аптекарь Холопайнен из Ювы считал, что если «финский закон невозможно будет развить, вступит в силу закон Лапуа». У директора Вяйнё Виртасена из Форссы также было решительное мнение: «Первым же поездом большая делегация Лапуаского сейма отправится добиваться поддержки своего решения о том, что коммунисты должны покинуть парламент в течение 30 часов. Давайте поедем хоть на дополнительном поезде, хоть сегодня же». Сторонники умеренной линии и защитники более медленной просветительской работы были сметены угрожающими антидемократическими и поддерживающими насилие речами.
Фермер Вихтори Херттуа из Юлистаро, который поднялся до уровня Косолы в руководящей тройке народного движения в Южной Похьянмаа, требовал роспуска парламента и предостерегал собрание от проявления признаков отступления. По мнению Херттуа, «наступающий фронт означает победу, поэтому нужно продолжать действовать самыми решительными мерами». Магистр Эркки Ряйккёнен, один из основателей «Лиги независимости» и AKS (Академическое Карельское Общество), также хотел видеть армию народного движения на улицах Хельсинки. Он заверил сомневающихся, «что над ними в Хельсинки не будут смеяться, если с ними будут егеря и активисты».
Несмотря на радикальные речи, решений было принято мало. На собрании была основана организация под названием «Суомен Лукко» (Замок Финляндии), которая должна была вывести народное движение на следующий организационный уровень. Правительству и президенту республики были отправлены телеграммы, но поход на Хельсинки, на который многие надеялись, так и не состоялся. В конце собрания Гуннар фон Гертцен с разочарованием отметил, что принятые решения не будут иметь никакого значения, а отправленные телеграммы пойдут прямиком в мусорную корзину. На этот раз, однако, причин для разочарования в своих не было. Победа умеренной линии была лишь кажущейся.
С мартовского собрания в Лапуа началось развитие, которое быстро привело движение на путь насилия и переворота. Радикалы организовались и обошли умеренную линию делегации «Суомен Лукко». Народное движение фактически раскололось на две части. В конце марта радикалы решили перейти к прямым действиям. В редакцию ваасаской левой газеты «Тюён Яяни» (Голос труда) ворвались и уничтожили типографию газеты. Преступная деятельность передала инициативу радикалам, к которым присоединился и лидер движения Вихтори Косола.
Весна стала временем мобилизации радикалов по всей Финляндии. С помощью сети шюцкора в начале лета начали создаваться штурмовые отряды, которые приступили к похищениям и избиениям. Июнь 1930 года стал пиком финского политического террора — финского сквадризма.
Летом 1930 года ездили автомобили, похищали, унижали и избивали людей. Трое похищенных были убиты. В 1930 году произошло двести пятьдесят похищений, большая часть — в летние месяцы. Рабочие дома закрывались, газеты запрещались, действовавшая в парламенте Социалистическая рабочая партия Финляндии была объявлена незаконной, депутатов парламента похищали. Когда правительство Кюёсти Каллио ушло в отставку, а парламент был распущен, лапуасцы достигли своей первой цели с помощью террора. О подчинении парламентской системы хорошо свидетельствовал тот факт, что перед Крестьянским маршем президент Реландер посетил Лапуа с аудиенцией, чтобы встретиться с Косолой и выяснить, как далеко намерено зайти народное движение. Казалось, что летом 1930 года Финляндия перешла под контроль националистических радикалов.
Куда двигалось народное движение? Декларация Лапуаского движения, опубликованная перед Крестьянским маршем, суммировала политические требования радикалов. «Целью движения является внутреннее укрепление финского государства и общества». Для этого требовалось, чтобы
“1) антихристианская и предательская деятельность коммунистов, руководимая из Москвы, была безоговорочно прекращена; 2) поскольку опыт научил, что партийный дух, царящий в парламенте, сделал невозможным эффективное противодействие коммунизму, отравил нашу политическую жизнь и помешал формированию сильного правительства, в нашем представительном органе необходимо провести такую реформу, которая, возможно, освободит деятельность парламента от ослабляющего влияния партий; 3) в соответствии с унаследованным от наших предков здоровым правовым сознанием, условием предоставления полных гражданских прав должно быть выполнение гражданских обязанностей.” 195
Требования содержали основные элементы фашистских движений: ссылки на упадок, угрожающий обществу, отторжение коммунистов, отказ от парламентаризма, апеллирование к традициям и народному духу, и милитаризация общества. Также не осталось неясным, что альтернативой выполнению требований движения будет насильственный переворот.
Содержавшийся в требованиях отказ от пропорциональной избирательной системы сам по себе уже был бы радикальной реформой. Это означало бы быструю однобокую трансформацию партийного поля, поскольку малые партии потеряли бы возможность проводить своих представителей. Это не беспокоило народное движение, поскольку его целью было полное уничтожение партий.
Еще более значительным изменением было бы привязывание права голоса к платежеспособности по налогам. Это означало бы возвращение к условиям сословного общества, которое, однако, у многих современников хранилось в памяти как далекое счастливое время. Число имеющих право голоса при введении всеобщего и равного избирательного права в 1906 году увеличилось в десять раз. Требуемая реформа вернула бы Финляндию к олигархии. От этого требования руководство движения позже сообразило отказаться по тактическим соображениям. Слишком многие современники понимали его последствия как возврат в прошлое и к ситуации, породившей войну 1918 года. Требование, однако, не было оторванным от реальности, а соответствовало националистическому радикализму и одновременным течениям европейского фашизма. 196
Давайте-ка разделаемся с Каллио!
Восьмого июня 1930 года поезд, идущий на север, остановился на станции Сейняйоки. Из вагона на перрон вышел премьер-министр Кюёсти Каллио, направлявшийся домой в Нивалу. Кондуктор указал Каллио, что на перроне его ждет угрожающе ведущая себя толпа мужчин. Каллио все же решил выйти из поезда и встретиться с ними.
Всего за несколько дней до этого один из руководителей «Суомен Лукко», Мартти Пихкала, был на аудиенции у премьер-министра в Хельсинки. Пихкала от имени «Суомен Лукко» и Лапуаского движения предложил Каллио пост народного вождя. Аналогичное положение диктатора Финляндии уже предлагалось после первого гражданского собрания в Лапуа Вяйнё Таннеру, который ушел из политики на пост главы «Эланто». Рафаэль Хаарла, разочарованный умеренной линией первого собрания в Лапуа, «именем отечества» просил Таннера стать вождем Финляндии. Таннер посоветовал Хаарле «оставить свои иллюзии и доверять демократии».198
Чем был вызван такой поворот, разве «лукковцы» и лапуасцы не выступали против Аграрного союза и социал-демократов как партий? Возможно, это был оппортунизм: в частных фантазиях Пихкалы и Хаарлы народный вождь из «классовых партий», таких как Социал-демократическая партия или Аграрный союз, обеспечил бы движению достаточно широкую поддержку, которую невозможно было бы достичь ничем иным, кроме противостояния коммунизму. Это также стало бы последним шагом к государственному перевороту и диктатуре. Возможно, это была и провокация, сознательная попытка подорвать парламентскую систему изнутри. Если бы такой ключевой политический лидер, как Каллио или Таннер, перешел на сторону движения, по крайней мере, избирателям их партий пришлось бы делать выбор между партией и народным движением. Политическая элита, которая постепенно начала видеть, что стоит за «народным движением», отшатнулась от этих планов. Неудивительно, что и Каллио отказался.
Когда весть от Пихкалы дошла до штаба сторонников жесткой линии в Лапуа, для отказавшегося оставался только один вариант: смерть. Молодые люди тянули жребий, кому совершить убийство премьер-министра. Жребий пал на 22-летнего Юрьё Хиссу и 27-летнего Юхо Перямяки, которые отправились в Сейняйоки, чтобы привести в исполнение приговор, вынесенный народным движением.
Каллио встретил своих убийц на перроне и по их пламенным речам понял, что они настроены серьезно. Каллио «призвал юношей отказаться от своего замысла, потому что его жизнью они ничего не добьются». В ходе короткого разговора выяснилось, что молодые люди были детьми его знакомых. Хисса и Перямяки, вероятно, поняли, глядя на 57-летнего, невысокого, сутулого и седеющего государственного деятеля, что не смогут его убить. Молодые люди, воспитанные в народной школе на уважении к власти, в конфирмационной школе — на морали, а в армии — на повиновении приказам, не смогли совершить поступок, который они осознавали как преступление.
Они позволили премьер-министру сесть обратно в поезд, который медленно тронулся со станции на север. Неудача означала для молодых людей потерю лица, которую можно было разрешить только одним способом. Хисса и Перямяки, отрешившись от мира, прошли за длинные штабеля дров у железнодорожной станции и застрелились.
Хотя в народном движении бравировали и составляли жесткие планы, доходившие порой до мельчайших деталей, те, кому было поручено их исполнять, в конечном итоге оказывались самым слабым звеном планов. Но время насилия продолжалось. После отставки правительства Кюёсти Каллио темпы похищений снизились, но они не прекратились. Общественное мнение решительно повернулось против похищений только после похищения президента К. Я. Стольберга в октябре 1930 года. Для многих, кто относился к народному движению с симпатией, было невозможно принять похищение старого и уважаемого олицетворения законности, несмотря на то, что, по мнению многих сочувствующих движению, Стольберг своей политикой амнистии подрывал белую Финляндию. Не облегчало принятие этого и то, что вскоре в прессе сообщили, что похитители и их руководители были пьяны почти на протяжении всей операции.
VII
Люди в летней ночи, крестьянский марш и судьбоносный час отечества
Вряд ли в северной стране есть летняя ночь;
есть лишь затяжной,
слегка тускнеющий вечер,
но и в этой тусклости
есть свое невыразимое просветление.
Это предчувствие летнего утра,
которое приближается.
Ф.Э. Силланпяя: Люди в летней ночи, 1934
Поршень тяжелого паровоза серии H с трудом движется назад. Давление пара давит на поршни и через них на колеса локомотива. После нескольких холостых движений они начинают тянуть тридцать вагонов, прицепленных к локомотиву. В смешанном поезде, помимо спальных и пассажирских вагонов, есть товарные вагоны, в которых в виде исключения прибиты деревянные скамейки. Поезд медленно трогается с железнодорожной станции Оулу на юг.
Время отправления дополнительного поезда со станции Оулу в воскресенье, утром 6 июля 1930 года, назначено на 5:00. Несколько сотен человек из Перапохьолы и Северной Похьянмаа, отправившихся из Оулу, должны были выйти из дома уже с первыми лучами воскресного утреннего солнца. Почти двести человек, прибывших еще с более северных территорий, приехали вечерним поездом накануне и переночевали в вагоне.
Предстоящий понедельник, седьмой день июля 1930 года, должен был стать демонстрацией силы финского национального радикализма — по словам будущего нобелевского лауреата Франса Эмиля Силланпяя, «высоким днем, следующим за рассветом». В течение дня произошло много событий, как и в романе Силланпяя «Люди в летней ночи»; в нем идиллию спокойной сельской местности на мгновение нарушает грубое, слепое, бессмысленное насилие. В конце концов лето продолжается, преступник получает по заслугам, а для путников летней ночи наступает прекрасное будущее.
Возможно, это была аллегория Силланпяя на свое время. По крайней мере, несомненно то, что в летней ночи Севера движется много народу. Первый поезд, везущий участников крестьянского марша, катится на юг. Оулу был для поезда лишь промежуточной остановкой; он отправился в путь еще с киевского вокзала в сентябре 1917 года и продолжал свое движение навстречу исполнению судьбы отечества. 199
Командир батальона Перяпохьолы, фабрикант и подполковник-егерь Пиетари Аутти еще сонными утренними глазами просматривает «общие правила порядка марша». «Каждый участник похода должен соблюдать военную дисциплину и порядок», — гласит первое правило. Каждому выдана сине-черная повязка с гербом Лапуаского движения, которую нужно повязать на левую руку. Во время похода ее нельзя снимать. Без разрешения нельзя покидать строй и передвигаться по улицам группами более пяти человек; само торжественное мероприятие и марш — это, конечно, другое дело. Участникам похода также запрещено покидать центральную часть города; мост Питкясилта переходить было нельзя. Для большинства мужчин из Похьянмаа это замечание вряд ли было необходимо, так как место было незнакомым, и лучше было держаться среди своих. Многие в этом походе впервые в жизни побывают в Хельсинки.
Отряд организован по-военному. Провинции образуют «батальоны», которые делятся на «роты», те, в свою очередь, на «взводы», а взводы — на «отделения» по восемь человек. Всего участников марша около двенадцати тысяч. В поход, согласно правилам, взяты мужчины не моложе 24 лет, «стабильные и умеренные» — хотя в толпе мелькают и некоторые помоложе, но большая часть мужчин видела войну 1918 года. И для младших возрастных групп есть свое место: на те же выходные в нескольких населенных пунктах приходятся праздники округов шюцкора. Часть шюцкоровцев страны находится в готовности к празднику, часть — к маршу: вдоль главных железнодорожных линий тысячами вызваны шюцкоровцы для охраны железной дороги. Ведь могли бы коммунисты и другие непатриотичные силы попытаться саботировать эту демонстрацию силы.
Поезд из Оулу — самый дальний и находится в пути сутки; специальные поезда из Куопио, Сортавалы и Ваасы отправляются только в воскресенье днем. Начало июля было жарким и нестабильным; в выходные по стране прошли грозы. В воскресенье в Хяме также ожидается сильная гроза. Южнее сено уже скошено и сложено в копны.
Еще до того, как поезд с севера даже подъехал к станции Оулу, в ту же ночь после полуночи в центре Йювяскюля собралось восемьдесят легковых автомобилей. Отправление в Хельсинки назначено на час ночи; перед этим путники маршируют в летней ночи к церковному парку Йювяскюля, где возлагают венок к памятнику героям Освободительной войны. Земледелец Эмиль Сарлин из Виитасаари произносит у могилы несколько слов. Сарлин — ветеран Освободительной войны и член штаба местного шюцкора и «Патриотических граждан Виитасаари». Он и нечто большее. Через этого ключевого организатора этапа похищений в Виитасаари в течение лета из Виитасаари было вывезено по меньшей мере тринадцать «коммунистов».
Теперь предстоит другая автомобильная поездка. Молчаливые мужчины маршируют к машинам, у которых, несмотря на полночь, толпится группа провожающих из Йювяскюля и издалека. Когда автоколонна в час ночи трогается в сторону Ямся, из толпы провожающих доносятся одобрительные возгласы. За исключением гула автомобильных моторов, летняя ночь в городе Йювяскюля тиха.
Сенная площадь на западной окраине города Тампере, куда из провинции привозят на продажу дрова и сено, рано утром в воскресенье начинает заполняться легковыми автомобилями. Большинство машин едут со стороны Юлёярви по Похьянмааской дороге и медленно проезжают мимо гряды Писпала в сторону города. «Бьюики», «Шевроле», «Студебеккеры», даже «Форды» — хотя и говорят, что «служанка не человек, а „Форд“ не машина» — и много менее известных марок автомобилей проплывают мимо на радость городским мальчишкам. Все машины, приехавшие издалека, серые от дорожной пыли — еще пыльнее они будут поздним вечером. Несмотря на раннее утро, на улицах есть люди, даже на краю площади около двухсот человек.
Это не так уж много, ведь мы в «красном» Тампере. С Сенной площади поднимается дым. Лотты варят кофе и раздают мужчинам бутерброды. И везде в других местах организация «Лотта Свярд» кормит путников на сборных пунктах и остановках, в столице и на торжественных приемах по прибытии. В Хельсинки вечером кофе и бутерброды, в Хельсинки утром кофе и бутерброды, в Тойяла на прощальном празднике, организованном патриотами из Акаа, — кофе и бутерброды.
Приезжая на площадь, многие машины заезжают на заправку «Рекорд». Автомобили расходуют десятки литров на сто километров. Поскольку заправок не так много, стоит использовать любую возможность. В состав колонны обеспечения входит и автоцистерна, на случай если до следующей заправки не хватит топлива в баке. После заправки машины одну за другой ставят в длинные ряды, из которых они по такому же указанию и отправляются в путь.
Имена участников записывают, и на каждую машину вешают флажок с эмблемой Лапуаского движения и большими буквами PH (Северный Хяме). На флажке также есть порядковый номер, указывающий, в каком месте колонны должна ехать машина. Путники видят флаги и в городе; финские флаги кое-где подняты на флагштоки.
Командиром батальона Северного Хяме является капитан-егерь Калле Хюппёля. Хюппёля — инженер-бумажник из Форссы, егерь, ветеран Освободительной войны и бывший офицер шюцкора, который в настоящее время занимает руководящую должность в собственной компании Paperipussitehdas ja Kauppa oy. Заместитель командира отряда Хяме Эйно Полон вызывает больше опасений. Многообещающая военная карьера капитана-егеря Полона, дошедшая до французской кадетской школы Сен-Сир, прервалась из-за психического расстройства и изнасилования служанки в семье знакомых. Полон поселился в Кангасала, где он управляет усадьбой Лаувола. После семи лет затишья он, кажется, снова вернулся на сцену. 200
Хюппёля поднимается на небольшое возвышение и произносит для отъезжающих «короткую и военную, но сильную патриотическую» речь, как позже опишет присутствующий журналист. Он обращает свои слова как к путникам, так и, прежде всего, к тем другим слушателям, которые пришли на площадь:
“После Освободительной войны финская крестьянская армия с твердым духом победителя вошла в столицу. В прошедшие годы свободе вновь стала угрожать измена и кощунство над всем святым со стороны врага, разбитого в 1918 году. Поэтому финские крестьяне решили снова идти маршем на столицу, чтобы там твердо и достойно заявить свое непреложное слово: коммунизм в Финляндии должен быть уничтожен.” 201
Прощальные речи повторяются везде, где в это воскресенье собираются отряды. Содержание тоже почти дословно совпадает. Те же самые заявления и формулировки Лапуаского движения повторяются в речах и газетах, вплоть до великой речи Вихтори Косолы на Сенатской площади.
Когда часы приближаются к девяти, мужчины начинают садиться в машины. В четверть десятого машина командира батальона трогается на восток, мимо Александровской церкви к центру города. Машину Хюппёля сопровождают три мотоцикла, и, согласно инструкциям, машины одна за другой, в номерном порядке, трогаются с Сенной площади. Последним едет отдел снабжения, три грузовика, запасные шины и другие ремонтные принадлежности в кузовах которых должны были гарантировать, что никто не останется в пути. Патриотичный народ — это народ порядка.
Крестьянский марш подполковника и настоятеля
Местом сбора участников марша на Хельсинки из Турку назначено село Лоймаа, куда к полудню воскресенья начинают съезжаться машины. Из одной машины выходит в гражданской одежде командир батальона Порийского полка, подполковник Пааво Суситайвал. Словно чудом тысяча человек из Варсинайс-Суоми отправилась в поход, но в остальной недавней деятельности, по мнению Суситайвала, хвастаться было нечем. Похищения приходилось организовывать силами офицеров: во многих из них участвовали офицеры Порийского полка в гражданской одежде. По предложению Суситайвала, в похищениях пытались придумывать всякие забавные издевательства вместо обычных избиений — возможно, так удалось бы и жителей Варсинайс-Суоми воодушевить на дело отечества.
Суситайвал ушел из армии после событий в Реполе. Когда Боби Сивен застрелился, брат Пааво отправился туда, чтобы распорядиться наследством брата и помочь карелам в вооруженном восстании против Советской России. Он пытался телеграммой заставить министра иностранных дел Холсти отложить вступление в силу Тартуского мирного договора с Советской Россией и присоединение Пораярви и Реполы к Советской России; когда это не удалось, Суситайвал спрятал винтовки, доставленные активистами в Реполу для восточно-карельского восстания, и организовал в регионе милицию. Это привело к внешнеполитическому конфликту с Советской Россией. Суситайвал подал прошение об отставке президенту Стольбергу — по его собственной интерпретации, в знак протеста против присоединения волостей к России. 202
Эта череда событий оставила свой след. Радикализация Суситайвала происходила постепенно и обострилась только после его возвращения на действительную военную службу на должность командира батальона Порийского полка, дислоцированного в Турку. Горечь по отношению к закулисной власти, бесхребетным политикам и подозрительным международным тайным обществам, подобным масонам, переросла в непримиримость. Суситайвал, как и Юхан Фабрициус и Арне Сомерсало, был воплощением европейского ветеранского духа и национального радикализма, хотя его мировая война прошла в гражданской войне в Финляндии, в Ахволе волости Яаски.
Сейчас Суситайвал более чем воодушевлен. На всякий случай он упаковал в сумку свою офицерскую форму; она могла бы понадобиться, если бы дела пошли в том направлении. Суситайвал, помимо офицерской службы, был военным инструктором Порийского округа шюцкора, и в силу этой должности он был организатором марша. Суситайвал знает, что у большинства мужчин с собой ручное оружие. В пару машин также взяли ручные пулеметы и автоматы из полкового арсенала. 203
Путь поезда из Оулу через равнинные пейзажи, болота и леса Северной и Центральной Похьянмаа кажется быстрым. Поезд много раз останавливается между Оулу и Юливиеска, в Кокколе к нему даже добавляют вагоны. Со всеми остановками и погрузкой людей поезд добирается до Сейняйоки за девять часов. Когда поезд дает гудок в Сейняйоки в знак прибытия, уже издалека видно, что здесь поезд заполнится. Окрестности железнодорожного вокзала полны народу: наибольшее внимание привлекают мужчины среднего возраста в темных, серых и коричневых костюмах-тройках и фетровых шляпах. У многих мужчин надето то, что называют вястикси или рёйюкси — кёрттипуку: короткий серый пиджак с прямым воротником и такие же по цвету штаны, на ногах — пьексут (традиционные кожаные лапти или ботинки без каблуков).Почти у всех на руке сине-черная повязка с гербом Лапуа. Цвета не случайны; черный, синий и белый повторяются как в гербе Лапуа, так и в одежде приверженцев движения «кёртти».
Когда поезд из Оулу останавливается на станции, к нему прицепляют состав, стоящий на путях в Сейняйоки; всего в поезде теперь 44 вагона. В спальном вагоне в голове поезда едут со своими женами Вихтори Косола и Вихтори Херттуа, а также другие лидеры, священники Вяйнё Мальмиваара и К. Р. Карес.
О чем в этот момент думает настоятель церкви Лапуа, 56-летний Каарло Риетрикки Карес? Судя по тому, что было рассказано позже, об этом можно догадываться. Возможно, в уме Кареса даже в этот счастливый момент мелькает воспоминание, которое преследовало его всю жизнь:
Зал в доме и в нем черный гроб, в котором покойница, мать восьмерых детей. Маленького очень больного мальчика подносят, чтобы он в последний раз увидел свою мать. Отец нес и плакал. 204
Просторный сельскохозяйственный ландшафт Сатакунты, река Кокемяенйоки, церковь в Наккила; молитвенное движение, которое защищало, давало жизни стабильность и защиту от безбожного мира — таковы были первые религиозные впечатления Каарло Риетрикки. Карес принадлежит к тем лидерам движения пробуждения (herännäisyys), чью религиозную убежденность с самого начала сопровождало участие в общественной жизни. Он дважды был депутатом сейма, в начале века от старофинской партии, а совсем недавно — от Коалиционной партии.
Политика увлекала Кареса с начала 1900-х годов и англо-бурской войны, освободительной борьбы поселенцев голландского происхождения в Южной Африке: «Я не понимаю себя», — писал Каарло своей жене Сигрид в те годы:
«Каждый раз, когда приходит газета, я горю желанием узнать, что нового о войне. Утром я перечитываю те же военные новости по нескольку раз… а днем, постоянно между чтением, доблестная борьба буров, как с неба, приходит мне на ум».
Студент-теолог Карес учился, закончил учебу и, как это было принято у молодых священников, в начале своей карьеры сменил много приходов. В Отаве, недалеко от Миккели, он так долго проработал директором народного училища, что успел погрузиться в общественные дела в качестве муниципального деятеля и даже депутата сейма. Он написал брошюру «Мысли о паразитизме в Саво», но проповедническая деятельность взяла верх над общественным влиянием. Карес переехал в Турку в качестве проповедника миссионерского общества, известного как «пробуждение Ханнулы», и там быстро стал лидером пробудившегося народа. Он взялся за преобразование небольшого общества в миссионерский центр для всей юго-западной Финляндии. Организовывались богослужения, духовные собрания, братские встречи священников, миссионерские праздники, собиравшие тысячи участников.
Карес был избран настоятелем в Лапуа зимой 1924 года. Там новый настоятель почувствовал, что народ не был разделен на два разных лагеря, как в Турку, Лахти или Тампере, где он успел послужить за свою пастырскую карьеру. В Южной Похьянмаа вера, движение пробуждения, была близка, ее этапы были живой историей. Движение пробуждения было для жителей равнин частью повседневной жизни, а не просто спектаклем в праздничной одежде. Новоиспеченный настоятель был завален приглашениями на собрания. Везде хотели петь псалмы и слушать речи о вере и словах Библии. Среди прихожан было много молодых парней в костюмах «кёртти» и серьезных девушек. «В совместном упражнении в слове был освобожденный дух и предчувствие тайной радости». Священник, проповедник, политический деятель, бывший директор народного училища и миссионерского центра нашел свой дом.
Движение пробуждения действительно присутствовало во всем: большинство ключевых лидеров движения в конце 1920-х годов были из Южной Похьянмаа, от светских проповедников до церковных служителей. Ключевыми фигурами пробужденных были Мальмиваара: пробст Лапуа Вилхельми Мальмиваара, настоятель церкви в Юлистаро Арви Мальмиваара и директор народного училища Кархумяки в Лапуа Вяйнё Мальмиваара. Их влияние распространялось по всей стране; Вяйнё Мальмиваара, будучи настоятелем в Киурувеси, был вдохновителем молодого студента Элиаса Симойоки. Помимо лидеров, Южная Похьянмаа привела в движение и пробудившийся народ: летние собрания, «праздники пробуждения», в 1920-х годах выросли в события, собиравшие десятки тысяч слушателей. Это было великое, почти всю страну — Похьянмаа и Центральное Саво — объединившее народное движение, предшествовавшее этому другому народному движению. 205
Настоятель Карес принадлежит к самому радикальному крылу народного движения. Он смотрит на перроне с нескрываемым восхищением на Косолу, которого он назвал избранным Богом вождем для финского народа. Это в итоге станет для Кареса камнем преткновения, так как не все пробужденные одобряют смешение мирских дел с вопросами веры — особенно когда в пучине политики вскрываются эгоизм, разврат и интриги. Об этих борениях Карес и другие, подобные ему, еще не знают; те времена еще впереди. Следующие два дня — это великий подъем народного движения и настоятеля Кареса. 206
По обеим сторонам дверей вагонов поезда установлены в качестве украшения березки, как на Юханнус. В поезде едет полевая кухня лотт, и в одном вагоне находится кафе, содержащееся «Лоттой Свярд». В поезде также есть медицинский вагон, где главным врачом работает муниципальный врач Херманни Тиитинен из Лапуа. Часы показывают четыре часа дня, когда последние путники погружены в поезд, двери и люки вагонов проверены и закрыты. Дежурный по станции дает поезду сигнал к отправлению. Из уст провожающих и отъезжающих вырывается песня: «На землях, где дымят подсеки, живет народ, что всегда лелеял свою свободу…»
На полустанке Сиитама к северу от Тампере в поезд марша садится журналист из газеты «Аамулехти», который берет интервью у Вихтори Косолы. Газета в восторге от народного движения — и неудивительно, ведь секретарь редакции газеты Ээро Рекола — человек из того же движения. Он согнал полредакции снимать крестьянский марш на камеру и описывать на пишущей машинке.
«Лапуаское движение направлено исключительно против коммунизма», — говорит Косола. Монолог Косолы в вагоне поезда — это генеральная репетиция завтрашнего выступления. Он заверяет, что
цель крестьянского марша — показать правительственной власти, что патриотические граждане непоколебимо стоят за этим требованием. Лапуаское движение не стремится к диктатуре и не хочет подрывать основы демократического общественного строя. Более десяти лет назад финская крестьянская армия стояла в столице на Сенатской площади, празднуя победу в Освободительной войне. Теперь представители этой армии снова собираются, чтобы потребовать, чтобы нашу независимость и свободу, завоеванные в Освободительной войне, не могли осквернять и оскорблять те же элементы, против которых сражались в 1918 году. Если чисто парламентских средств будет недостаточно для быстрого искоренения коммунизма из этой страны, государственная власть должна использовать такие средства, которыми это будет сделано. 207
Поезд прибывает в Тампере за несколько минут до одиннадцати вечера; на вокзале поезд встречают сотни, по благосклонной оценке — тысяча человек. Поезд останавливается на шесть минут.
Колонна из ста пятидесяти автомобилей батальона Северного Хяме прибыла в Хямеэнлинну в тот же день в полдень; колонна сохранила очень стройный порядок, машины, согласно инструкциям, должны были соблюдать дистанцию в 50 метров, а в населенных пунктах — в десять метров при скорости 20 километров в час. Беспокоит только постоянная дорожная пыль, даже начавшийся после Янаккалы дождь не прибивает всю пыль. Днем колонна достигает ипподрома в Туусуле и Хюрюля. Там ждут машины, приехавшие из Центральной Финляндии. Когда объединенная колонна после построения трогается из Хюрюля, количество автомобилей выросло уже до пятисот. Впереди еще чуть больше часа пути. По пути колонна останавливается, уставшую от дороги машину берут на буксир и продолжают путь. Случается еще несколько проколов шин.
Когда день клонится к вечеру, пыльные дороги перед автоколонной наконец сменяются мощеными улицами. Кое-где уже виден сплошной бордюрный камень, и дома становятся городскими. В окрестностях Валлилы и Сёрняйнен, по словам одного из сидящих в машине, на автомобили смотрят косо. Автоколонна переезжает через мост Валлила на улицу Вийпуринкату, оттуда на улицу Норденшёльдинкату и на Турунтие; оставшийся путь по западной Виертотие до Кямппи — это «сплошные приветственные возгласы». Столица принимает народное восстание смиренно, даже с энтузиазмом.
В числе первых в Хельсинки въезжают жители Сатакунты на почти ста тридцати автомобилях. Ближе к девяти прибывают жители центральной Финляндии и оба округа Хяме, всего почти две тысячи человек, на 475 автомобилях. Автомобили, украшенные гербом Лапуаского движения и буквенно-цифровыми знаками, видны в длинных очередях на Мунккиниементие, Мерикату, на площади Трех кузнецов. Народное движение занимает город.
По приказу Суситайвала две машины из автоколонны жителей Сатакунты загоняют во двор одного из домов, чтобы их постоянная охрана не привлекала внимания посторонних. Пространство для ног на заднем сиденье, само сиденье с внутренними отсеками и багажник служат арсеналом батальона. Винтовки, ящики с патронами и более тяжелое вооружение тщательно завернуты в одеяла.
Мальчики на футбольном поле
Понедельник, седьмой день июля 1930 года, светает ясным. Специальный поезд, отправившийся из Оулу, въезжает на железнодорожный вокзал Хельсинки в половине пятого утра. Вихтори Косола и Херттуа с супругами получают почти государственный прием. Начальник Генерального штаба, полковник Курт Мартти Валлениус, встречает их на вокзале. Полковник-егерь Валлениус, пожалуй, самый высокопоставленный национальный радикал своего поколения, достигший вершин в оборонном ведомстве; с самой большой высоты он и упадет. В этот момент об этом падении ничего не известно; те силы, которые в конечном итоге его свергнут, сегодня находятся в движении, охваченные смешанными чувствами страха.
В программе, розданной накануне вечером прибывшим на машинах отрядам, питание в местах размещения было назначено на восемь часов, но мужчины выползают уже вскоре после шести, чтобы посмотреть, как лотты варят кофе. К восьми часам на железнодорожный вокзал прибывает и последний из пяти поездов с участниками марша, и мужчины выгружаются из поездов на утренний кофе. Путники умываются на железнодорожных путях в оборудованных для этого местах. У мужчин с собой рюкзаки с провизией, самыми необходимыми туалетными принадлежностями и табаком. У многих в рюкзаке или кармане пиджака есть оружие.
Чистыми руками, с выбритыми бородами, мужчины маршируют ротами, взводами и отделениями в парк Гесперия на организованное кофепитие. В половине одиннадцатого по всему городу раздаются команды командиров маршевых колонн: «В строй становись!» Мужчины готовятся к маршу и отправляются на стадион Тёёлё. Это первый марш двенадцати тысяч человек через город. Впереди отряда каждой провинции глашатай несет табличку с названием провинции: Варсинайс-Суоми, Южное Саво, Восточная Уусимаа, Западная Нюланд, Северный Хяме, Южная Похьянмаа…
В здании землячества Похьянмаа в течение двух дней раздавали входные билеты на мероприятия на стадионе и Сенатской площади. К началу праздника на стадионе, помимо двенадцати тысяч участников марша, собралось около десяти тысяч зрителей. Участники марша выстраиваются на поле и, постояв немного, садятся на траву. День уже душный, и пиджаки снимают. Жилеты и белые рукава рубашек сияют на солнце. У края поля продают лимонад.
В то же время делегация Лапуаского движения во главе с Вихтори Херттуа встречается с премьер-министром Свинхувудом, который находится в должности третий день. Херттуа отвечает за кабинетную политику, Косола — за публичные выступления. Херттуа представляет премьер-министру декларацию Лапуаского движения.
На флагштоках стадиона развеваются финские флаги. Трибуна, построенная в западной части поля, также украшена финским флагом. В остальном это простая, сколоченная из досок сцена, сбоку от которой находится ложа, а точнее, загон для почетных гостей мероприятия. Это мероприятие — смотр войск, почетных гостей здесь пока не ожидается.
К. Р. Карес, Вихтори Херттуа, Вихтори Косола, Вяйнё Мальмиваара и Йохан Рихард Даниэльсон-Кальмари занимают места в ложе, построенной на трибуне для выступлений. Вихтори Херттуа — красивый мужчина. В своей черной фетровой шляпе этот 44-летний земледелец напоминает хладнокровных, сухопарых героев вестернов. Он — один из лидеров движения «пробудившихся» из Юлистаро, центральная фигура народного движения. В политическом плане он хитрее Косолы, но свойственная уроженцам Южной Похьянмаа черта характера, зависть, мешает возникновению между мужчинами доверия, которое сделало бы руководство народного движения достаточно сильным. 208
Украшений на трибуне не видно, так как это не подало бы правильного сигнала о ситуации. Перед трибуной установлены два микрофона на штативах, а по бокам — громкоговорители. Речи передаются через микрофоны для собравшихся на площади и по радио на всю Финляндию. Государственный совет отдал распоряжение о радиотрансляции обоих мероприятий. Ни одно слово не останется неуслышанным.
В двенадцать часов главный капельмейстер армии Лаури Няре поднимает и опускает свою дирижерскую палочку; объединенные оркестры Финской Белой гвардии и Морских сил выводят первые ноты «Марша дубинщиков» Тойво Куулы. Хотя со смертью Куулы в Выборге в 1918 году связаны неприятные вещи, он — уроженец Южной Похьянмаа! Голос Южной Похьянмаа звучит сегодня в столице. Кто-то, возможно, даже напевает про себя слова марша: «Кого раз наша дубина повалит, тот на земле и останется…» 209
Первую речь дня произносит пастор Карес. Карес, в облачении священника, поправляет свои овальные очки и сжимает бумаги обеими руками, словно только держась за них, он может удержаться в этом мире. Речи в этот день зачитываются прямо с листа. Они были заранее переданы в газеты, и печатные станки в данный момент слово в слово набирают речи для каждой крупнейшей правой или центристской ежедневной газеты страны.
День душный, один из самых жарких за лето, и каждый легкий порыв юго-западного ветра лишь на мгновение облегчает мучительное состояние слушателей. «Граждане, мужчины Финляндии», — начинает Карес,
«Я спрашиваю вас, почему вы покинули свои дома в тишине сельской местности? Сенные луга зовут своих косарей, светлеющие ржаные поля скоро спросят о своих жнецах, о вас, которые, несмотря на это, пожертвовали несколькими днями ради этого похода».
Причина серьезна. Карес напоминает о борьбе народа и принесенных кровных жертвах и продолжает, ссылаясь также на осенние «рубашечные сеймы» в Лапуа:
«Мы не могли стерпеть, чтобы то наследие, что было так собрано, и святое призвание нашего народа позволяли осмеивать, попирать и уничтожать как действиями тех, кто находится под влиянием чуждого нашему народу духа, так и легкомысленным безразличием и попустительством». — Здесь буйствовала группа, которая открыто и беззастенчиво насмехалась и топтала все то, что мы считаем самым святым в мире.
У пастора Кареса был личный опыт на этот счет. Годы его проповедей в Турку закончились беспокойной осенью 1917 года, когда на улицах Турку проходили демонстрации, беспорядки и грабежи магазинов. «Сброд бушевал», — так он это воспринял. В мыслях всплывает отголосок осени 1917 года:
«Посмотрите на душу толпы, когда она предъявляет свои требования, ломает, рушит и топчет ногами многое из того, что следовало бы считать святым. Пугающее движение — они ждут нового царства. Они тоже, как олени, изнывающие от жажды на песке. Сами они пытаются создать это новое безумными и невозможными средствами, ненавистью, насилием и мечом. Так и есть: лжехристы — но христианин видит в этом, как и во многом другом, распускание смоковницы». 210
Книга француза Гюстава Ле Бона «Психология масс», высокомерная и надменная трактовка новой эры масс, была популярна в руках христианского и образованного класса того времени. Она предлагала подходящее объяснение, почему мир стал тревожным, беспокойным и движется в неверном направлении. Теперь Карес видит перед собой иную душу толпы, «душу народа Божьего, исполненную Духом Божьим». В провозгласительной части своей речи Карес иронично берет для сравнения декларацию рабочего движения «Мы требуем» с ноябрьской забастовки 1917 года и продолжает:
«Мы требуем, чтобы религию и страх Божий в этой стране не поносили и чтобы дух поношения не распространялся на детей и молодежь. Мы требуем, чтобы в парламенте отказались от мелочных партийных расчетов и строили связи, а также принимали законы, которые гарантируют нашей стране всегда сильное и долгосрочное правительство. Мы требуем, чтобы дело отечества и справедливости не становилось предметом торга».
Первая речь дня — это необычная смесь политической агитации, религиозного экстаза и драматической формы проповеди на богослужении. Ее эффект опьяняет. Поднявшиеся на ноги толпы бурно аплодируют сразу после окончания речи. Когда, казалось бы, бесконечные овации стихают, капельмейстер Няре поднимает свою дирижерскую палочку, и оркестр грянет «Марш Ваасы»: «Так на смерть мы будем биться, как герои Ваасы всегда!» В порыве воодушевления поются одна за другой песни провинций: «Когда враг нашей Финляндии! Если где-то нужен мужчина, чтобы пасть за родину! И каждый ноготь оледенел за землю Финляндии! Бдительно отразит врага, с правом как защитой!»
После песен провинций на сцену поднимается высокий, сутулый и кажущийся хрупким университетский человек, историк Йохан Рихард Даниэльсон-Кальмари, которого пригласили произнести речь на шведском языке. Восьмидесятилетний Даниэльсон-Кальмари почти глух, заслуженный почтенный старец, уже давно отошедший от общественных дискуссий книжник. Его личное увлечение движением Лапуа заставило делегацию обратиться к нему, ведь среди участников марша 2300 шведоговорящих финнов.
Речь Даниэльсона-Кальмари — это суховатое изложение всех речей дня, в том числе и тех, что еще не прозвучали. Эта речь тоже вызывает бурю оваций, и после нее на сцену выходит Вихтори Косола, чтобы провозгласить троекратное «ура» в честь отечества. В этот момент делается знаменитая, в хорошем и плохом смысле почти иконическая фотография Косолы, потрясающего кулаком.
После исполнения «Марша порийцев» Косола уже собирается уходить со сцены, когда участники марша требуют его возвращения на помост. Косола принимает овации; его поднимают на руки и проносят по площади, как победителя в беге.
Среди участников марша, командующий своим отрядом подполковник Суситайвал, ощупывает внутренние карманы своего пиджака, где лежит несколько ручных гранат-«яиц». «Там было такое настроение, — вспоминал позже Суситайвал,
— что если правительство [и] президент сейчас не уступят требованиям движения Лапуа, то эта демонстрация может превратиться в нечто иное, чем предполагалось. Конечно, при этом лицемерно клялись, что ничего подобного делать не будут».
Суситайвал размышляет, как быстро он сможет добраться до машины, чтобы надеть свою офицерскую форму. В главном карауле города находится рота Поринского полка, командиром которой является Суситайвал. Если возникнет такая необходимость, «можно было бы захватить [президентский] дворец и стариков, которые там, на другой стороне улицы [= в Государственном совете]. О солдатах нельзя сказать, как бы они подчинились такому приказу… но дела были организованы до такой степени». 211
Рубикон на Сенатской площади
Вскоре после этого у обочин улиц вблизи стадиона начинает собираться народ. В два часа дня делегация Лапуа во главе с Косолой начинает марш в сторону Булеварда. Мужчины в темных костюмах, в жилетах, кто в галстуке, кто в крестьянской куртке, с белыми, застегнутыми доверху воротничками рубах. Большинству около сорока-пятидесяти лет, кто-то сутулится, в толпе «бодрые ветераны войны», в высоких блестящих кожаных сапогах, с которых утром была тщательно стерта пыль долгой поездки на автомобиле.
Цель идущей по Эспланаде толпы — Сенатская площадь, куда отряды маршируют по улицам Катаринанкату и Унионинкату. Сбор участников марша на Сенатской площади занимает почти час. На ступенях церкви расположились приглашенные гости, которых уже встречает делегация движения Лапуа во главе с Косолой. Среди приглашенных видны депутаты от буржуазных партий, во главе с новым спикером парламента, профессором Юхо Сунилой. Кроме них присутствуют главнокомандующий вооруженными силами, генерал-лейтенант Аарне Сихво, начальник генерального штаба, полковник К. М. Валлениус, верховный главнокомандующий шюцкора, генерал-майор Лаури Мальмберг и начальник военного отдела шюцкора, полковник Вяйнё Палоярви.
Из трех самых важных приглашенных гостей первым прибывает правительство страны во главе с премьер-министром П. Э. Свинхувудом. После нового правительства прибывает генерал белой армии Густав Маннергейм. Делегация движения Лапуа, в которую входили земледелец Вихтори Херттуа, советник апелляционного суда Харальд Боухт и земледелец Тойво Похьола, за полчаса до этого официально пригласила его на мероприятие. Последним прибывает служебный автомобиль президента республики. Лаури Кристиан Реландер пожимает руку Косоле и вместе со своими адъютантами становится в ряды приглашенных гостей.
Капельмейстер поднимает свою дирижерскую палочку, и десятитысячное море людей присоединяется к словам, следующим за мелодией. «Бог — наша крепость» катится мощным гулом, набирая силу от каменных стен университета, церкви и Государственного совета, возвращается и, наконец, затихает в массе костюмов, сшитых из грубой саржи.
Далее следует полевое богослужение. На трибуну первым поднимается пробст Вяйнё Мальмиваара, который проповедует по пророку Иезекиилю: «И произведу суды в Египте, и узнают, что Я — Господь».
«В этот день Бог серьезно сказал и нашему народу: Я произведу суды в Финляндии, чтобы они узнали, что Я — Господь. Он сказал это через великое и чудесное народное восстание. Какие суды? Знаю, что отвечу правильно, сказав, что Бог теперь судит в этой стране предательский и поносящий все святое коммунизм, скрывающийся во тьме. Он больше не позволит сеять разрушение в душе нашего народа и порочить здесь Его святое имя». 212
Правительство страны — четыре министра от Аграрного союза, три от Коалиционной партии, два от Шведской народной партии, один от Прогрессивной партии и два беспартийных министра — и президент республики слушают проповедь Мальмиваары перед двенадцатью тысячами участников марша. Они стоят под ярким солнечным светом. Момент мучителен не только физически, но и психологически. Что произойдет? Что эти люди собираются делать? Собираются ли они вообще что-то делать?
«Несомненно, Бог в эти времена произвел среди нас и другие суды, кроме уже упомянутого. Он осудил болезненность нашей партийной жизни, безразличие, проявляющееся на государственной службе, гнойные язвы нашего времени, злоупотребление публичным словом и прочее, что стремится ослабить наш народ».
Отношение подполковника Суситайвала к политикам не изменилось; лишь незадолго до этого он в своей статье назвал настоящее время «эпохой подвальных героев и профессиональных политиков». Этот момент для «подвальных героев» в цилиндрах — напоминание о смертности. «Подвальные герои» — любимый термин Суситайвала. Для него он означал профессиональных политиков, которые прятались во время гражданской войны и своей глупостью и политикой, основанной на закулисных сделках, тогда привели и снова вели страну к гибели.
Сам Суситайвал пришел из самой гущи событий. Его ключевую роль как активиста отражало то, что он в свое время придумал название для подпольной организации, занимавшейся созданием шюцкора, — «Новое лесное бюро». В число его близких и уважаемых друзей входили «серый кардинал» финского активизма Эльмо Кайла, активист, вооружавший шюцкор, Эйно Суолахти, ключевой организатор егерского движения Туре Сведлин, активист шюцкора К. Э. Левалахти, руководитель Олонецкого похода Урхо Сихвонен, активист племенных войн Вальде Сарио — все мужчины, которые теперь занимали влиятельные посты в организации шюцкора и ее контрольном органе «Центре», в Академическом Карельском Обществе, в Союзе фронтовиков Освободительной войны и в местных ветеранских объединениях. 213
Суситайвал помнил и торжества Академического Карельского Общества в день Снелльмана в мае 1924 года. «Таким образом, я, как брат Боби Сивена, передаю для прикрепления к знамени Академического Карельского Общества в качестве обязывающего напоминания ту пулю, которая 12 января 1921 года в Реполе пронзила сердце моего брата». Пулю принял товарищ-активист, которым Суситайвал восхищался, Эльмо Кайла, чьи слова Суситайвал помнил наизусть:
«Как председатель Академического Карельского Общества, я благодарю майора Сивена за дар, который наше Общество таким образом удостоилось принять. И я верю, что так же, как я сейчас прячу эту пулю в лентах нашего знамени, в сердце каждого члена Академического Карельского Общества укоренится та клятва, которую мы принесли».
Суситайвал стоит под палящим солнцем на площади перед Государственным советом и смотрит на господ в черных сюртуках и цилиндрах. Несмотря на жару и духоту, Суситайвал позже рассказывал, что он чуть ли не смеялся, стоя там и думая о том, что задумали некоторые офицеры: пойти в здание парламента с автоматами и оттуда, с галерей, перестрелять всех левых.
Проповедь заканчивается молитвой «Отче наш». Косола поднимается на несколько ступеней по лестнице церкви. Десятитысячная толпа мужчин аплодирует, и овациям нет конца. Косола читает с листа:
«Когда финская Освободительная война в 1918 году была завершена ценой тяжелых кровных жертв, и наша победоносная крестьянская армия с твердым духом вошла в столицу, на эту самую площадь, чтобы завершить великий труд освобождения отечества, мы все думали, что страна теперь навсегда спасена от позорного ига нашего векового кровного врага, русского, и что та часть рабочего класса, которая, сбитая с толку кровавыми красными учениями, примкнула к нашему извечному врагу и восстала против своего отечества, уже получила достаточный наглядный урок о том, какова в конечном итоге судьба предателя родины…»
Карес слушает зачарованно. То апрельское утро, когда Северно-Хямеский батальон белых, отряды под предводительством авантюриста эстонского происхождения Ханса Кальма, прибыли во двор пастората в Асиккала, было незабываемым. Кальм и его люди были джентльменами, егерями, магистрами, студентами, а с ними пришли крестьянские бойцы, настоящий народ. Единственное неприятное воспоминание о Кальме было связано с приказом, который он велел пастору зачитать с кафедры. Карес помнил напечатанный на машинке листок бумаги, полученный от посыльного Кальма, в котором в качестве приказа сообщалось, что для предотвращения распространения венерических заболеваний «первая проститутка, обнаруженная среди войск, будет отправлена в заключение за 50 километров в тыл, вторая получит порку, третья будет расстреляна». Ошеломленный Карес категорически отказался читать подобное объявление. Позже, правда, он с усмешкой вспоминал, что «вот было бы что послушать собравшемуся в церкви приходу».
Косола дошел до кульминации своего зачитывания:
«Те законопроекты, целью которых является достижение нашей цели, ожидают одобрения парламента. Мы, 10 000 человек, говорим: эти законы должны быть приняты, и эхом наших слов звучат сотни тысяч голосов по всей стране: Эти законы должны быть приняты. Возможности влияния коммунизма должны быть искоренены до основания». 214
Требования теперь были предъявлены на главном парадном месте нации, и республика должна была ответить. На трибуну поднимается президент республики. Изящные усы, редкие, прилегающие к голове волосы, пухлые щеки, приятное, хотя и несколько высокомерное выражение лица, он ищет в карманах бумаги. Реландер, близкий к земле член правления Выборгского округа шюцкора, в столице успел превратиться в обходительного джентльмена. Президент говорит тонким, приятным голосом вещи, которые, как он надеется, являются правдой:
«Целью движения Лапуа является внутреннее укрепление финского государства и общества. Движение Лапуа не стремится к изменению нынешней формы государственного устройства Финляндии и не добивается никакой диктатуры, а придерживается демократического общественного строя, основанного на историческом развитии Финляндии».
«Граждане. Этот момент посвящен великому делу отечества. Будем верить, что это патриотическое народное движение, подобно чистилищу, очистит, пробудит и объединит граждан для доверительного и созидательного сотрудничества по созданию внутренне и внешне сильного государства». 215
Исполненный после речи президента гимн «Наша страна» завершает программу, и «в сопровождении громких и мощных криков “ура” президент, белый генерал освободительной войны и правительство покидают Сенатскую площадь. Отряды маршируют с площади под звуки оркестра, исполняющего патриотические марши. Великое представление сыграно.
В глазах подполковника и участника крестьянского марша Суситайвала, марш на Хельсинки находится в шаге от развязки, но руководство в решающий момент проявляет нерешительность. Никто — ни Косола, ни Херттуа, ни кто-либо другой — не отдает приказ к бою.
Впоследствии он будет не единственным, кто осознает, что Рубикон был именно в этот момент.
Возвращение и следующее утро
Часы показывают восемь вечера. Специальные поезда заполняются пассажирами. К десяти вечера последние автоколонны отправляются в обратный путь. По дороге в домах шюцкора для участников похода — членов шюцкора — организованы пункты отдыха, где местные лотты предлагают кофе и бутерброды. Однако строй колонны распадается, так как большинство водителей едут почти без остановок, насколько хватит бака. Нужно спешить на сенокос, по крайней мере тем, у кого есть поля.
Единственные инциденты марша происходят сейчас. У Диаконического учреждения в головные машины колонны летят камни; колонна останавливается, метатели камней исчезают где-то в направлении скал Алппила. На переезде в Питяянмяки мотоциклиста-курьера, едущего впереди автоколонны, бьют и горячо приветствуют: «Проклятый мясник!» Мужчины из следующей головной машины видят происходящее, машина останавливается, и мужчину догоняют. Его сажают в головную машину и везут несколько километров. Затем колонна останавливается. Мужчину из Питяянмяки выводят на обочину, на кучу гравия, и командир отряда из Сатакунты, торговец К. В. Хухтала, приказывает ему в наказание стоять по стойке «смирно» на куче гравия, пока последняя машина не проедет мимо него.
Проколы шин и поломки двигателей случаются и на обратном пути. Самая серьезная авария происходит в волости Кюми, когда один автомобиль, перевозивший участников марша, съезжает с моста через реку Кюмийоки у Коркеакоски. Четверо находившихся в машине участников марша из Хамины успевают выбраться, но водитель тонет. Поскольку водитель в 1918 году состоял в красной гвардии, его подозревают в том, что он был коммунистом.
В остальной Финляндии не так спокойно. В выходные, когда проходил марш, в Форссе у порога своего дома застрелен рабочий Юрьё Хольм, отказавшийся ехать с похитителями. В Наккиле совершено покушение на сторожа рабочего дома. Председатель рабочего союза Алавуса и сторож рабочего дома Вампулы похищены. В поселке Рованиеми устраивают поджоги; по подозрению в диверсии задержано более двадцати человек, и в прессе виновными объявляют коммунистов. Начальник батальона, участвовавшего в крестьянском марше из Перапохьолы, Аути, за несколько дней создает в Рованиеми «добровольную гражданскую организацию», задачей которой является сбор информации для полиции. Уже в августе, менее чем через полтора месяца после событий, семеро жителей Рованиеми, причастных к поджогам, приговариваются к каторжным и тюремным срокам. Все удивляются быстроте действий; Рованиеми и вся страна, кажется, находятся в решительных руках. 216
Крестьянский марш был одновременно и брошенной в воздух угрозой, и грандиозным фиаско народного движения. Террор и диверсии, принявшие в июне 1930 года систематический характер, показали правительству, что националистический радикализм, породивший движение Лапуа и Союз фронтовиков Освободительной войны, проник пугающе глубоко в вооруженные силы и организацию шюцкора. Мудрому человеку не оставалось ничего другого, как отступить: правительство страны, пользующееся доверием избранного на выборах парламента, ушло в отставку. Хотя это и было унижением народовластия, унижение иногда может быть государственной мудростью. Другой шаг мог бы привести к попытке осуществить самые безумные видения движения Лапуа.
Когда в Хельсинки участников марша встретило правительство, укомплектованное подходящими людьми, громкие речи превратились в театральное потрясание кулаками. Хотя революции не произошло, власть народного движения была продемонстрирована и подчеркнута — по крайней мере, так хотели думать Косола и его единомышленники: террор будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты законы. Это и стало самым далеко идущим последствием марша: после крестьянского марша «в общественном сознании укоренилось убеждение, что принятие коммунистических законов означает мир, а их отклонение — хаос». С вступлением законов в силу радикалы обнаружили, что они съели своего главного врага, а вместе с ним и оправдание своей деятельности. Но теперь тихо о «великом празднике патриотического воодушевления» молчали только социал-демократические газеты. Они уже боялись следующего шага «народного движения». 217
VIII
Восстание без народа. Мянтсяльский мятеж.
Их единственным требованием было, чтобы ненавистный им марксизм, о подлинной сущности которого, вероятно, лишь немногие имели какое-то представление, но который они инстинктивно чувствовали угрожающим достижениям Освободительной войны, был искоренен до основания. Они возлагали все свои надежды на общественное мнение, которое, как они знали, требовало того же и которое, как они теперь верили, после столь неожиданного обострения ситуации, мощно поднимется.
Арне Сомерсало
Ранним утром 25 мая1931 года выборгская полиция нашла в придорожной канаве обнаженного мужчину с несколькими кровавыми ножевыми ранениями на теле. Мужчина, однако, был жив и в сознании. Когда его подняли на ноги, он смог представиться как исполнительный директор из Хельсинки Аарне Рунолинна. Рунолинна входил в руководство Хельсинкского союза фронтовиков и прибыл в город на съезд головной организации — Союза фронтовиков Освободительной войны. Оттуда до выборгской придорожной канавы должно было быть далеко.
Оправившись от худшего, Рунолинна на следующий день объяснил полиции свои действия. После окончания официальной программы он отправился «пьянствовать в какой-то бордель». Вскоре вспыхнула ссора из-за политики. Рунолинна был избит, раздет и выброшен на улицу. Пьяная цепь событий в выборгской ночи не стала последним контактом Аарне Рунолинны с властями.218
Фанатичный, пьющий и задиристый Рунолинна живо напоминал карикатурный образ лапуасца, рисуемый левыми: шатающегося с винтовкой на плече и бутылкой в кармане. Позже Рунолинна утверждал, что все произошедшее было провокацией, организованной Центральной сыскной полицией против него и фронтовиков, которых он представлял. Аарне Рунолинна был из тех людей действия, в которых движение нуждалось — и которых использовало.
Революционные воины
Аулис Й. Аланен, входивший в число студентов-членов Лапуаского движения, позже вспоминал братьев Рунолинна, Олави и «нацистского типа» Аарне, как самый отвратительный тип людей в народном движении. Аарне Рунолинна был глубоко вовлечен как в деятельность Лапуаского движения, так и в деятельность фронтовиков Освободительной войны, и представлял самое насильственное крыло радикального движения. Таких, как Рунолинна, бойцов на все руки объединяло постоянное культивирование теорий заговора и новых образов врага, наглая и популистская риторика, а также вопиющее преувеличение собственной роли. Никакой поступок не был слишком инфантильным и никакое утверждение слишком неправдоподобным, если они служили мировоззрению, состоящему из лозунгов и мифов. Для Рунолинны Финляндия во всех отношениях находилась в состоянии упадка — как в духовном, так и в экономическом и оборонном. 219
Союз фронтовиков Освободительной войны собирал в свои ряды таких персонажей, как Рунолинна, которые идеализировали тоталитаризм и презирали левые взгляды, парламентаризм и демократию. Центральной угрозой для движения, активизировавшей таких, как Рунолинна, стал миф о преследовании ветеранов Освободительной войны на рабочих местах. Согласно ему, настоящие герои, фронтовики, после войны были оттеснены в сторону и забыты, в то время как враги отечества могли свободно бесчинствовать. Виноваты были партии и парламентская система, которая не могла проводить правильную политику. Для искоренения террора на рабочих местах Союз фронтовиков Освободительной войны создал обширную систему для документирования и реагирования на выявленные недостатки. В собственной организации Аарне Рунолинны, Хельсинкском союзе фронтовиков, были созданы отдельные отделы по борьбе с террором на рабочих местах и по политическому надзору. 220
Союз фронтовиков Освободительной войны перенял в качестве своего символа европейскую ультранационалистическую ветеранскую риторику, [направленную] против системы, находящейся во власти конфронтации. Он предлагал убежище и духовный дом для радикальных движений одного человека и создавал атмосферу таинственности, которая прямо-таки порождала внутренние напряженности и склоки между кликами, борющимися за власть.
Союз фронтовиков Освободительной войны на практике формировал собственное крыло в Лапуаском движении. Его члены были в авангарде тех, кто вел все движение в более радикальном направлении. «Кююдитуксет» (похищения и вывоз на границу) рассматривались как большая победа линии людей действия, подобных Рунолинне. Противозаконность действий не была проблемой. В годовом отчете Союза фронтовиков в 1930 году как нечто естественное констатировалось, что среди фронтовиков нашлось большое число организаторов похищений. Когда в октябре того же года полиция арестовала председателя союза Эйно Хаарлу и членов правления Арттури Вуоримаа и Арви Калсту по подозрению в похищении спикера парламента Вяйнё Хаккилы, это лишь увеличило известность замешанных в деле.
Для современников идеологическая основа фронтовистского движения на этом этапе была уже ясна: как в буржуазной, так и в левой прессе ее называли фашистской и внепарламентской силой. Внутри движения время от времени существовало явное стремление к внепарламентской деятельности. Аарне Рунолинна был одним из тех лидеров фронтовистского движения, кто рассматривал государственный переворот как серьезный вариант. Он был убежден, что демократия, парламентаризм и либерализм являются препятствием на пути к процветанию и счастью страны. Политическая система уничтожила достижения Освободительной войны и отстранила от процесса принятия решений вождей Белой армии. Рунолинна и многие его единомышленники считали, что переход к идеальному обществу начнется с приведения к руководству страной генералов Освободительной войны. С их помощью можно было бы вернуться к чистому белому исходному состоянию начала Освободительной войны.
Под генералами Освободительной войны, естественно, подразумевались Густав Маннергейм и его доверенные лица Рудольф Вальден и Ханнес Игнатиус. В националистических радикальных кругах Маннергейм долгое время был само собой разумеющейся кандидатурой на пост главы государства; ведь активисты пытались избрать Маннергейма президентом при поддержке шюцкора еще на президентских выборах 1919 года и в 1921 году сделать его главнокомандующим армии шюцкора. Маннергейм, долгое время находившийся в тени, вернулся в политическую элиту лишь тогда, когда Свинхувуд в 1931 году назначил его главой Совета обороны.
Маннергейм не уклонялся от поддержки организации фронтовиков, но публично держался на расстоянии от самых ревностных воинов свободы. Генерал Ханнес «Гнатте» Игнатиус, напротив, не обращал внимания на излишние формальности. Начальник пропаганды Маннергейма во время гражданской войны был автором многих речей Маннергейма и главной звездой памятных торжеств Освободительной войны, который по уши ввязался в Мянтсяльский мятеж. Третьим «собственным» генералом фронтовиков был влиятельный деятель экспортных и работодательских организаций бумажной промышленности, владелец-директор «Юхтюнеет Паперитехтаат», генерал-майор Рудольф Вальден. Вальден также был доверенным лицом Маннергейма со времен Освободительной войны. Эта тройка генералов маячила в глазах финских фашистов, когда они строили планы на будущее страны, независимо от того, что думали сами генералы.
Весной 1931 года Аарне Рунолинна и его товарищи в Хельсинкском союзе фронтовиков решили начать подготовку к перевороту. Сначала революционеры захватили бы свою собственную организацию, а затем и весь Союз фронтовиков Освободительной войны. В марте Рунолинна и егерь-майор, офицер генерального штаба Рагнар Грёнинг добились своего избрания в правление союза фронтовиков.После этого они потребовали изменений в руководстве общенационального союза. Местонахождение союза следовало перенести из Тампере в Хельсинки, руководство следовало централизовать и укрепить, избрав Маннергейма и двух его генералов-товарищей в качестве руководящей тройки движения. За спиной Рунолинны и компании стоял Ханнес Игнатиус, который был вовлечен в план с самого начала. Основанием для требований кадровых перестановок были «состояние государства и интересы отечества», которые «требовали от союза еще более энергичных и целенаправленных действий под руководством лидеров Освободительной войны». 221
Однако захват власти провалился. Руководство Союза фронтовиков Освободительной войны прознало об этом и приняло контрмеры. Свои же и подвели, так как против Рунолинны и Грёнинга выступил основатель и председатель Хельсинкского союза фронтовиков Арттури Вуоримаа, который одновременно занимал пост секретаря Лапуаского движения. На съезде фронтовиков в Выборге предложение группы Рунолинны было отклонено. Возможно, именно это и заставило Рунолинну отправиться в ночной город топить свое разочарование. 222
Однако Рунолинна не отказался от своих планов. Когда внутренняя борьба за власть в союзе закончилась поражением Рунолинны и Грёнинга, они вместе с лесоведом, доктором Мартином Хагфорсом, получившим импульс от «Патриотического клуба Виитасаари», и начальником полиции Хельсинки Яльмаром Хонканеном основали в Хельсинки конкурирующую организацию фронтовиков под названием «Полевые серые шинели Освободительной войны» (Vapaussodan Kenttäharmaat – Frihetskrigets Fältgrå). Почетными членами общества стали генералы Маннергейм, Вальден и Игнатиус. Председателем стал Грёнинг, а также бывший офицер Карл Линд, работавший в экспортных организациях бумажной промышленности. «Полевые серые шинели» преуспевали, и у последовательно двуязычного общества вскоре были сотни членов. Из числа шведоязычных ветеранов к обществу в 1934 году присоединились, среди прочих, писатели Эрнульф Тигерстедт и Бертель Грипенберг. Рунолинна все время входил в руководство общества.
Создание нового общества было связано с беспокойством, которое многие национальные радикалы испытывали летом 1931 года. Политическая ситуация, по мнению Рунолинны, была тревожной. Лапуаское движение угасло, а его руководство находилось в глубоком упадке. Нового, энергичного лидера народного движения не было на горизонте. Поле националистического радикализма бурлило: недовольные начали создавать собственные движения и планировать государственные перевороты.
Хотя и «Полевые серые шинели Освободительной войны», и Хельсинкский союз фронтовиков, и Союз фронтовиков Освободительной войны официально держались в стороне от планов переворота, внутри них формировались группы, в которых планы переворота были обычным делом. Осенью 1931 года Рунолинна остро почувствовал, что он должен что-то сделать для спасения ситуации. Силы нужно было снова собрать под единым руководством. Рунолинна начал планировать новый проект переворота, в руководство которого нужно было любой ценой привлечь Маннергейма и его генералов, а также руководство Лапуаского движения и союза фронтовиков. Рунолинна представлял себе, что для подготовки проекта следует создать новый Активный комитет; комитет с таким же названием руководил финским сопротивлением в последние годы автономии. В руководство комитета он прочил — конечно, помимо себя — Ханнеса Игнатиуса и своего товарища-фронтовика Рагнара Грёнинга. Подобно настоящему заговору, комитет должен был разделиться на несколько ячеек, готовых к решительным и быстрым действиям.
Сам переворот должен был произойти по традиционным схемам. Целью был новый крестьянский марш, но на этот раз без крестьян. По мнению Рунолинны, большой ошибкой Лапуаского движения было то, что оно привело в движение одних лишь крестьян без достойного руководства. Вместо того, чтобы участники крестьянского марша на Сенатской площади заставили правительство уйти в отставку и выбрали свое собственное правительство, всему было позволено пойти насмарку. Новый план переворота основывался бы на активном участии генералов. Когда войска захватили бы улицы Хельсинки, генералов представили бы народу, и им были бы вручены ключи от власти. Другим буржуазным движениям не осталось бы иного выбора, кроме как поддержать свершившийся факт.
Сам Рунолинна, как член Активного комитета, принимал бы решения о графике переворота и выборе нового правительства страны. Однако посвященных в тайну нужно было выбирать тщательно, так как не все активисты оставались прежними. По мнению Рунолинны, поддержка Лапуаским движением президентства П. Э. Свинхувуда была большой ошибкой. Свинхувуд, хотя и был заслуженным борцом за независимость, был по натуре законником и таковым оставался. От него не следовало ожидать решающей поддержки планам переворота. Эта оценка, нехарактерно для Рунолинны, оказалась верной. 223
Из плана, зародившегося в одной маленькой клике, ничего не вышло. Рунолинна даже не смог представить свои планы руководству Лапуаского движения и Союза фронтовиков Освободительной войны. Однако в деталях проекта вновь сконцентрировались ключевые идеи финского фашизма: утерянное наследие Освободительной войны, марш на Хельсинки, вера в действие и переворот, возвращение руководства Белой армии как объединяющей силы. Дела пошли бы вперед, как только старые активисты взялись бы за дело. Недостаток чувства меры в планах или их явная незаконность не представляли проблемы.
Угрозы, которые видел Рунолинна, были общим достоянием. Они формировали общую идентичность радикализированного поколения Освободительной войны. Те же вопросы обсуждались во многих кликах в те годы. Как и в случае с Рунолинной, большинство проектов так и остались на стадии планирования. Годы спустя Рунолинна сожалел, что из марша на Хельсинки ничего не вышло, так как все другие «движения смешивали карты и разрушали фронт лапуаского движения».
Путешествие в сердце тьмы
Темной ночью, в густую метель, одинокий автомобиль с трудом пробивался из Хельсинки в Хямеэнлинну. В машине сидели майор Рагнар Грёнинг, исполнительный директор Аарне Рунолинна и доктор Мартин Хагфорс — радикальная руководящая тройка хельсинкской организации фронтовиков «Полевые серые шинели Освободительной войны». Вскоре после полуночи автомобиль остановился перед городской гостиницей Хямеэнлинны, и путешественники вошли в большой зал отеля.
Там царила атмосфера после праздника. На столах валялись пустые и частично выпитые бутылки. Пепельницы были переполнены окурками. Несколько полностью выдохшихся мужчин, одетых в традиционные рубахи «юссипайта», дремали за столами. За одним из столов около дюжины пылких студентов из Академического Карельского Общества все еще распевали патриотические песни. Среди этого праздничного шума группа Грёнинга наконец нашла тех, кого искала. За длинным столом сидела известная пара лидеров Лапуаского движения, Вихтори Косола и Курт Мартти Валлениус, оба в сильном подпитии. Было первое марта 1932 года, и цепь событий, известная как Мянтсяльский мятеж, уже три дня держала страну в напряжении. Путешественники, прибывшие из Хельсинки, оказались в нервном центре происходящего государственного переворота. 224
История Мянтсяльского мятежа состоит из слухов и представлений, предположений и возможностей. Мятеж можно рассматривать как бесчисленные истории, в поворотах и ответвлениях которых концентрируются идеологическая основа финского фашизма, развитие движения и ключевой опыт его сторонников. Мятеж развивался и продвигался, как живущий моментом рыболов, готовый пробовать разные наживки, прислушиваться к реакциям и реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию. Однако никто не взял на себя руководство и ответственность.
Для политически осведомленных людей открытый мятеж не стал сюрпризом. Он не был сюрпризом и для властей. Чего-то можно было ожидать с тех пор, как националистические радикалы получили поддержку народного Лапуаского движения. Особенно осень 1931 года была горячей порой слухов о перевороте. Раскрытые проекты не были серьезными, и Мянтсяльский мятеж тоже было легко преуменьшить задним числом, но атмосфера неопределенности была фактом. Она кристаллизовалась в вопросе, как далеко простирается верность самой белой Финляндии республике и народовластию? Что сделали бы члены шюцкора, если бы организацию попытались втянуть в государственный переворот? Подчинились бы армия и ее офицеры приказу подавить мятежников, одетых в форму шюцкора? На чьей стороне была бы полиция, а на чьей — полиция безопасности?
В основных кругах Белой Финляндии в начале 1930-х годов царило более широкое и серьезное, чем прежде, недовольство существующей политической системой. Это чувствовали и политики: после крестьянского марша всем стало ясно, что у радикализма в Финляндии есть сторонники на всех уровнях общества: в офицерском корпусе сил обороны, в организации шюцкора, в чиновничестве, в промышленных кругах, в обеих языковых группах, среди мужчин и женщин.
В Финляндии межвоенного периода националистический радикализм был настолько тесно связан с годами борьбы за независимость и героическим мифом о независимости, что в буржуазных кругах предпочитали умалчивать об угрозе, которую он представлял для политической системы. Опыт Освободительной войны объединял несоциалистов от умеренных до радикалов. Партии центра и правые, опасаясь падения поддержки, потакали радикальным мнениям и тем самым укрепляли респектабельность радикализма. Черное хотели видеть белым. Даже похищение президента Стольберга, Мянтсяльский мятеж и связанное с ним убийство Минны Краухер не смогли полностью подавить популярность радикализма.
Шюцкор пытались оправдать с самого момента их основания, и более поздние исторические исследования едва ли смогли поколебать эту линию. Когда рассматриваешь шюцкор с точки зрения националистического радикализма, произошедшее не оставляет много места для оправданий. Организация шюцкора, будь то официально или неофициально, участвовала почти во всех проектах радикалов. Общенациональная структура организации позволила радикалам действовать по всей стране: подавление забастовок, движение фронтовиков, Лапуаское движение, похищения, крестьянский марш и Мянтсяльский мятеж. Беспокойство социал-демократа Вяйнё Таннера и многих других современников было обоснованным: шюцкор представлял смертельную опасность для демократии.
Мянтсяльский мятеж зимой 1932 года был незапланированной, но логичной промежуточной станцией финского националистического радикализма. Если бы не взорвалось в Мянтсяля, взрыв, вероятно, произошел бы где-нибудь в другом месте. Мянтсяля во время гражданской войны был одним из центров белого движения и также пережил жестокую волну красного террора. Однако великой героической истории с этим местом не связано. В Мянтсяля просто в конце концов сошлось достаточно много факторов.
Одним из них был бывший секретарь Лапуаского движения Арттури Вуоримаа. Он был старым знакомым Рунолинны и Грёнинга, а с весны, предшествовавшей мятежу, также и их злейшим врагом. Вуоримаа как раз во время событий в Мянтсяля был объявлен в розыск за политическое насилие и скрывался от властей вместе со своим соучастником Кости Пааво Ээролайненом в районе Мянтсяля. Раздражая левых, они еще больше накалили и без того горячие настроения в местности. Один из народных домов был заколочен. Вихтори Косола встречался с Вуоримаа и Ээролайненом всего за пару недель до Мянтсяльского мятежа. По словам Вуоримаа, Косола высказал пожелание, чтобы эта пара вызвала такое местное столкновение, которое послужило бы толчком для более крупного движения. 225
Это был метод действия движения, возглавляемого Косолой: надеялись и ждали, что непреодолимое народное движение просто придет и увлечет за собой, без необходимости лидерам в конечном итоге рисковать чем-либо. Национальная революция осуществится сама по себе. Подобное же ошибочное базовое предположение послужило стимулом и для попытки государственного переворота финской Красной гвардии в 1918 году. Вместо эффективных действий предполагалось, что власть упадет в руки сама собой, стоит лишь угрожать и заполнять бумаги. Этого не произошло, поэтому государство одержало победу над революцией, как в 1918 году, так и в 1932 году в Мянтсяля.
Искрой послужил вечер, организованный местным рабочим обществом, на который в качестве оратора был приглашен депутат парламента Микко Эрих. Местные белые заявили, что они не допустят этого мероприятия. В глазах Белой Финляндии Эрих был отступником, бывшим ярым сторонником Белой Финляндии, но теперь ставшим социал-демократом в результате политического обращения. Полиция направила отряд из двадцати человек для обеспечения безопасности мероприятия. В то же время Вуоримаа, как основатель Хельсинкского союза фронтовиков, привел в движение своих людей. К субботе в Мянтсяля собралась большая группа членов шюцкора, в основном хельсинкских фронтовиков, которые вместе с лапуасцами из окрестностей окружили народный дом в Охкола. Чтобы запугать, члены шюцкора даже открыли огонь по зданию, полному людей.
Удивительно, но обошлось без жертв. Полиция прервала митинг, а фронтовики и лапуасцы вернулись в дом шюцкора. Теперь последовал значительный поворот в развитии событий в Мянтсяля, когда Арттури Вуоримаа взял бразды правления в свои руки. В своей пламенной речи Вуоримаа убедил собравшихся в доме шюцкора в том, что стоит держаться вместе и с оружием. Под руководством Вуоримаа было составлено воззвание к правительству, и в то же время местная демонстрация переросла в общенациональный политический кризис.
В воскресенье утром страна проснулась от новостной бомбы. В Мянтсяля люди были под ружьем, и отдельные ячейки мятежников возникли и в других частях страны. Неудивительно, что еще один значительный очаг мартовского мятежа возник в Ювяскюля, где агроном и лейтенант Вели Быстрём со своим штабом привел местный шюцкор — при мощной поддержке жителей Виитасаари – в боевую готовность.
Если Центральная сыскная полиция и политическое руководство страны и были готовы к мятежу членов шюцкора, то и средства массовой информации были наготове. События в Мянтсяля стали беспрецедентным медийным событием, новостью, которой жаждали газеты. За кризисом следили не отрываясь. Мянтсяля была на первых полосах каждой значительной газеты более недели, и вся журналистская братия денно и нощно следила за драмой в Мянтсяля. Лидеров мятежа интервьюировали на месте и по телефону. Газета Helsingin Sanomat из-за плотного освещения событий решила выпускать специальный номер и во второй половине дня и основала для вечерних новостей новую газету — Ilta-Sanomat. За событием можно было в виде исключения следить и по радио, которое, за исключением новостей, обычно избегало политики. Радио в итоге и заняло значительное символическое положение в разрешении кризиса. Знаменитая речь президента Свинхувуда, в которой он осудил мятежников и призвал людей вернуться домой без последствий, транслировалась по радио в прямом эфире для всех и везде.
В воскресенье действующие лица начали выбирать стороны. Руководство Лапуаского движения выступило в поддержку мятежа, и сети Белой Финляндии пробудились повсюду. Ходили слухи о сборах «правильно мыслящих» членов шюцкора и их походе на Мянтсяля. В понедельник ставки повысились, когда руководство Лапуаского движения потребовало от правительства уйти в отставку и уступить место лапуасцам.
К угрозе Лапуаского движения присоединился и Союз фронтовиков Освободительной войны. Старый генерал-майор и серый кардинал планов государственного переворота Ханнес Игнатиус был полон энергии и идейного пыла. Он созвал правление союза фронтовиков к себе домой на кризисное совещание, которое решило оказать полную и открытую поддержку мятежникам:
«После 14 лет блужданий мы возвращаемся и твердо стоим на том пути, который указала Освободительная война — только в этом смысле фронтовики окажут свою поддержку и опору правительству страны».
Под руководством Игнатиуса делегация Союза фронтовиков Освободительной войны посетила президента, чтобы представить требование о смене правительства. На неделе мятежа Игнатиус был избран почетным членом союза. 226
За пару дней до своей ночной поездки в Хямеэнлинну Грёнинг и Рунолинна сидели в своей общей квартире в Тёёлё и с недоверием слушали сообщения по радио. В Мянтсяля началось столкновение, которого они, как и многие другие националистические радикалы, с нетерпением ждали. Энтузиазм слегка омрачало то, что их, старых заговорщиков, грубо оставили в стороне от событий. Было прямо-таки унизительно, как простым людям, следить за ситуацией по новостям и газетам.
Наконец, ожидание стало невыносимым. В понедельник они услышали слух, что делегация Лапуаского движения собирается в Хямеэнлинне. Грёнинг пришел в ярость, так как его — полноправного члена делегации — не проинформировали о, возможно, самом важном заседании в истории делегации. Очевидно, по приказу боевого товарища Игнатиуса, Грёнинг, Рунолинна и Хагфорс отправились в ночное путешествие в самый центр мятежного движения.
Прием в городской гостинице Хямеэнлинны был холодным. Ни Валлениус, ни Косола не захотели отвечать на вопросы разгоряченного Грёнинга о том, почему его не пригласили. Господа также не дали отчета о том, что было решено на вечернем заседании и что произойдет дальше. Разочарованные Грёнинг, Рунолинна и Хагфорс запрыгнули в свою машину и на рассвете поехали в сторону Мянтсяля. Вскоре после ухода мужчин в отеле началась суета. К отелю приближался полицейский отряд, усиленный солдатами, которому было приказано арестовать руководство мятежа Лапуаского движения. Присутствующие получили предупреждение в последнюю минуту и успели переместиться под защиту местного шюцкора в Харвиалу в Ваная. 227
В то же время, когда Косола и руководство Лапуаского движения проклинали приказ президента Свинхувуда об их аресте, Рунолинна, Грёнинг и Хагфорс приближались к Мянтсяля. В окрестностях становилось все больше признаков мятежа. Они проезжали многочисленные блокпосты, охраняемые вооруженными мятежниками; на позициях были даже пулеметы. Узнаваемым людям не составило труда проехать через блокпосты, добравшись до центра поселка, они припарковали свою машину перед штабом мятежников, домом шюцкора Мянтсяля.
Территория вокруг дома превратилась в военный лагерь. Повсюду были вооруженные часовые, сновали мужчины в форме шюцкора. Лотты хлопотали с едой и принимали продовольствие, которое местные жители приносили для мятежников. Дом шюцкора одновременно служил местом ночлега для примерно пятисот вооруженных мужчин, прибывших поддержать мятеж. На месте находилась сотня членов шюцкора из Южной Остроботнии под предводительством известного организатора похищений Антона Эонсуу, а также хельсинкские фронтовики, прибывшие под командованием морского капитана Эсры Теря.
Пересекая двор, Грёнинг и Рунолинна узнавали многих встречных. Руководство мятежа находилось в конторе дома, дверь которой была плотно закрыта для посторонних. Вскоре после прибытия Грёнинга позвали внутрь. Если он ожидал получить ясность о состоянии мятежа и направлении событий, его ждало разочарование. Арне Сомерсало сидел за большим письменным столом, Антон Эонсуу лежал на кровати, а Арттури Вуоримаа сидел на полу. Грёнинг поздоровался с присутствующими, не получив ответа.
Наконец, Сомерсало прервал молчание и спросил: «Где винтовка господина?» Грёнинг ответил, что если он останется в Мянтсяля, ему не понадобится винтовка, потому что он займет место руководителя. Дальше этого разговор не пошел. Грёнинг, Рунолинна и Хагфорс, не спавшие уже сутки, в напряженной атмосфере поехали обратно в Хельсинки, прямо к Ханнесу Игнатиусу.
Когда они поделились своими впечатлениями, начали доноситься слухи о сборах отрядов шюцкора, сочувствующих мятежу, в разных частях страны. Поговаривали, что войска двинутся на Хельсинки.
Игнатиус заторопился. Если государственный переворот действительно произойдет, он не хотел оставаться в стороне. Игнатиус сложил свою форму в чемодан и в среду вечером сел на поезд до Риихимяки с Рунолинной и Грёнингом в качестве адъютантов. Туда переместилось руководство Лапуаского движения, сбежав из Хямеэнлинны. Было также известно, что командир и офицеры расквартированного в Риихимяки 3-го полка полевой артиллерии сочувствовали мятежникам, как и триста членов шюцкора из окрестностей, вызванных в город.
На вокзале в Риихимяки группа узнала, что руководство мятежа находится в доме егерь-капитана Арттури Кястямя. Его дом был превращен в штаб мятежного движения, и его охраняла группа членов шюцкора. Снаружи на улице собралось много любопытных, которые пытались заглянуть в окна комнат на первом этаже. Среди оглушительного гула голосов Игнатиус, Рунолинна и Грёнинг подошли к Косоле, Валлениусу и Рафаэлю Хаарле, который был с ними. Когда Игнатиус понял, что у мятежников нет никаких конкретных планов, он вспылил и основательно отчитал Валлениуса. Затем он удалился на ночлег в привокзальную гостиницу.
Приход и уход Игнатиуса испортили настроение, которое еще в начале вечера было обнадеживающим. В среду вечером мятежное движение пережило как свой пик, так и разочарование. В набитом до отказа зале дома Кястямя сначала распространился слух, что перемена происходит. Правительство уйдет в отставку, а власть возьмут Рудольф Вальден и Густав Маннергейм. В половине шестого вечера президенту республики была отправлена телеграмма с требованием смены правительства. Однако ничего не произошло. Незадолго до прибытия Игнатиуса, Рунолинны и Грёнинга Свинхувуд выступил по радио. В ней он осудил мятеж и потребовал, чтобы люди вернулись домой.
Руководство мятежа все еще терзала нерешительность, потому что штаб жил слухами. Решение идти на Хельсинки и пытаться совершить переворот было настолько судьбоносным, что никто из участников не хотел брать на себя ответственность за окончательное решение. Будущий лидер IKL, историк Вилхо Аннала, вспоминал, как Валлениус и Эонсуу звонили ему и размышляли, стоит ли идти на Хельсинки или нет. Наконец, обычно сдержанный Аннала устал от болтовни и ответил: «Ну так и идите в Хельсинки! Должно же быть какое-то решение. Или уходите все по домам».
Грёнинг и Рунолинна еще оставались в штабе мятежников, с которым теперь связался батальон связи, расквартированный в Риихимяки. Батальону был дан приказ арестовать руководство Лапуаского движения. Со стороны арестовывающих выражалось пожелание, чтобы господа покинули дом. Мятежники перешли на другую сторону улицы в ресторан «Эланто», из окон которого они затем наблюдали за обыском солдатами дома Кястямя. После того, как солдаты ушли с пустыми руками, штабные вернулись обратно. 228
Рунолинна и Грёнинг нашли дорогу в пансионат «Кирсикка» и на следующий день вернулись оттуда снова к Кястямя. Ходил слух, что президент призвал руководство Лапуаского движения собраться в Тампере. Игнатиус поехал туда, а его адъютанты остались провести день в пансионате. Вечером Игнатиус вернулся из Тампере, объяснил, что весь мятеж был «сплошной халтурой», и уехал обратно в Хельсинки. В столице его встретили Мартти Пихкала и Кай Доннер, в компании которых он отправился в ресторан «Кайсаниеми» для обсуждения ситуации. Послание Игнатиуса старым товарищам-активистам было ясным: «из этого ничего не выйдет, все пьяны». А до отмены сухого закона оставался еще месяц! 229
В то же время в Риихимяки Рунолинна и Грёнинг устроили в доме Кястямя знатную ссору, обругав всех участников мятежа. Нервы были на пределе, так как позади были четыре дня лихорадочной деятельности и поездок на машине и поезде по Уусимаа и Южной Хяме. В ответ Рунолинна и Грёнинг получили угрозы убийством, и им пришлось быстро покинуть дом. Они больше не решались ночевать в пансионате, а нашли ночлег в другом месте и вернулись в Хельсинки первым утренним поездом в пятницу. Неделя мятежа для них закончилась, но и в последующие дни они сочли за лучшее не появляться в своей квартире.
Мятеж был подавлен. Началось разбирательство. Первый список обвиняемых был как справочник «кто есть кто» в националистическом радикализме: жители Южной Остроботнии, патриоты из Виитасаари, фронтовики Освободительной войны, армейские офицеры, командный состав шюцкора на местах. События показали, что значительная часть рядовых членов шюцкора была готова поддержать радикалов. В двух округах шюцкора его члены даже сместили окружное руководство, неохотно относившееся к мятежу. Результат в отношении кадровых офицеров также был тревожным, поскольку среди них нашлось много сторонников мянтсяльских мятежников. 230
Сеть единомышленников, организованная в шюцкор, была заманчивой картой для радикальных игроков в политическом покере, и многие надеялись увидеть эту карту. Во время кризиса в Мянтсяля карта была выложена на стол, но козырем она не оказалась. Положение радикалов в финском обществе было, однако, настолько сильным даже после неудавшейся попытки переворота, что победитель пытался представить результат как ничью.
Властям было трудно расследовать Мянтсяльский мятеж, потому что у события было много сторонников на верхах власти. Большую чистку провести было невозможно. Многие хотели все замять, ведь речь шла о патриотически настроенных людях. С другой стороны, хватало и тех, кто хотел наказать виновных по закону и заодно искоренить скрытый в государственных структурах белый революционный потенциал. Зашли слишком далеко, напоминание от государственной власти о бренности бытия было бы уместно.
Однако победила мягкая линия. Судебная система решила интерпретировать события таким образом, что мятежом считались только события в Мянтсяля. Другие действия в Риихимяки, Хямеэнлинне, Сейняйоки, Ювяскюля были истолкованы лишь как пособничество мятежу. Тысячи восторженных рядовых членов шюцкора, присоединившихся к мятежу, смогли вернуться домой с оружием. Под суд попали только лица, считавшиеся руководством мятежа, и даже из них лишь часть предстала перед судом: например, Ханнес Игнатиус так и не был привлечен к ответственности, хотя для этого были веские основания. Летом апелляционный суд Турку начал рассматривать 102 обвинения. Примерно половина обвиняемых в итоге получила безусловные тюремные сроки.
Еще одно последствие мятежа произошло в Хельсинки 8 марта 1932 года. Около трех часов Олави Рунолинна пришел к Минне Краухер, которая держала у себя дома доверенный салон, близкий к Лапуаскому движению. Краухер хотела услышать свежие новости из Мянтсяля. За столом с рюмкой и бутербродами Олави — по некоторым предположениям, там был и его брат Аарне — ругал Арттури Вуоримаа и других лидеров Лапуаского движения, показавших свою некомпетентность в Мянтсяля. Когда Минна посреди разговора начала писать письмо, Олави Рунолинна, который, согласно протоколам суда, был там один, вынул из кармана пистолет и дважды выстрелил Краухер в затылок.
Предполагаемой причиной убийства был страх руководства Лапуаского движения, что Краухер выдаст тайны движения общественности; намеки на это уже были, когда Краухер во время недели мятежа разговаривала с журналистами. Краухер была второстепенным персонажем в драме Лапуаского движения, которая сама считала себя одной из главных актрис. Однако ее «устранение» обернулось полностью против Лапуаского движения. Газеты теперь во всеуслышание раструбили подробности из жизни салона Минны и о промашках лидеров Лапуаского движения эффективнее, чем это когда-либо смогла бы сделать сама «Мадам».
Минна Краухер после своего убийства стала известнее, чем при жизни, и газеты, независимо от партийной принадлежности, неделями смаковали подробности убийства. В ноябре 1932 года Олави Рунолинна был приговорен к семи годам каторжных работ за убийство. «Попал поделом, лучше бы его нацистского типа брат Аарне, занимавшийся делами “фирмы” [Лапуаского движения], так говорили в народе», — вспоминал Аулис Аланен. Кто заказал убийство и кто нажал на курок, было, по сути, неважно: для Лапуаского движения это деяние стало катастрофой для репутации. 231
Найдите подходящих виновных
О том, что же на самом деле произошло в Мянтсяля, начали спорить сразу после событий. Часть радикалов преуменьшала значение неудавшегося мятежа и считала всю затею авантюрой, принесшей вред. По мнению других, речь шла о незначительной стычке, которую пресса раздула до масштабов мятежа. Многие были уверены, что речь идет о ловушке, подстроенной властями для Лапуаского движения, о провокации безмерно ненавистного радикалам министра внутренних дел Эрнста фон Борна. Были и те, кто задним числом мог рассказать о тайных переговорах и заговорах. Они описывали события в Мянтсяля как очень тщательно спланированную попытку мятежа, успех которой висел на волоске. Внутри «пузыря» Белой Финляндии в событиях Мянтсяля видели связи, командные отношения и планомерность, которые не всегда соответствовали действительности.
Поездки Аарне Рунолинны и Рагнара Грёнинга превратились в часть собственной героической саги радикалов, согласно которой речь шла о проекте генералов Освободительной войны. В этой саге на заднем плане попытки переворота маячила безопасная, но отдаленная фигура Маннергейма, готовая встать у руля, как только ситуация созреет. Его соратником был Рудольф Вальден, самый послушный и важный помощник Маннергейма. Правой рукой обоих был Ханнес Игнатиус. Ходили слухи, что Игнатиус уже осматривал в Мянтсяля подходящие дома для штаб-квартиры Маннергейма и действовал по прямому приказу Маннергейма. Рунолинна и Грёнинг, в свою очередь, были оруженосцами Игнатиуса, частью большего плана.
Такая версия событий в Мянтсяля, где Маннергейм и Вальден за кулисами выжидали возможности с помощью мятежа стать правящим дуумвиратом страны, повторялась в различных контекстах. История была словно создана для своего времени и идеалов Белой Финляндии. В поддержку увлекательной теории заговора можно было привести и ту деталь, что кандидат в премьер-министры от мятежников Рудольф Вальден прибыл к президенту немедленно после того, как руководство мятежа направило президенту требование о смене правительства. Согласно этой истории, Вальден предложил себя в качестве премьер-министра нового правительства, если Маннергейма сделают главнокомандующим силами обороны уже в мирное время.
Мянтсяльский мятеж создал благоприятную ситуацию для привычных Лапуаскому движению громких речей и слухов, которые были лишь бахвальством и популизмом. Во время мятежа все ждали, что что-то произойдет. В итоге ничего не произошло. В Риихимяки в доме Кястямя автоматически предполагали, что прибытие Игнатиуса на место напрямую связано с планами Маннергейма. В ситуации, когда никто не знал, что произойдет дальше, Косола и Валлениус, казалось бы, руководившие мятежом, верили, что событиями руководит какой-то высший, тайный круг. Этого не было. Они строили все свои действия на вере в то, что Маннергейм и Вальден вступят в борьбу, как в 1918 году, без того, чтобы их даже пришлось просить. Народное движение и его лидеры потеряли связь с финской действительностью.
Проект по приведению генералов к активному руководству в Союзе фронтовиков Освободительной войны всплывал и после Мянтсяльского мятежа. Союз публично поддержал собравшихся в Мянтсяля, и поэтому на него был наложен запрет на собрания. Арви Калста пытался использовать вакуум власти. В апреле 1932 года он попросил Маннергейма стать председателем союза. Калста намеревался перенести штаб-квартиру союза из Тампере в Хельсинки и убрать из руководства тех лиц, которых он считал вредными для деятельности. Когда Маннергейм не согласился, попытка переворота Калсты провалилась. Ему не оставалось ничего другого, как выйти из правления союза фронтовиков; он немедленно обратил свой взор на создание собственной организации. 232
Борьба, развернувшаяся в организации фронтовиков, отражала более широкую проблему фашистского движения. Мощное народное движение, на плечах которого могло бы продвигаться их дело, застряло на месте. Еще весной 1930 года ожидания были высоки, но после лета, полного насильственных похищений, и крестьянского марша не решились сделать следующий шаг. Сторонники начали уходить. Фронт, требующий законности, усилился, а популярность народного движения упала. Те, кто ждал энергичного руководства и программных заявлений из дома Косолы в Лапуа, были разочарованы. В собственных рядах националистических радикалов, не уверенных в будущем, возникли напряженность и ссоры. Наиболее обеспокоенными очевидными признаками распада движения часто были те, кто своими же действиями наиболее яростно его и разрушал.
Воинство Божие
Движение Лапуа было не только крестьянским по своим внешним формам и принявшим вид народного движения Остроботнии, но и одной из конечных точек политической активности пробудившихся. Общественное влияние и церковная деятельность переплетались в деятельности церковников первых десятилетий XX века, и лидеры пробудившихся не были исключением. Во времена сословного сейма духовенство участвовало в государственной политике как отдельное сословие, так почему же следовало отказываться от политической активности и в однопалатном парламенте. 233
Сети пробудившихся строились на священнических родах, мирских проповедниках и браках, и они связывали между собой в особенности сельские местности Южной и Северной Остроботнии, а также центральной части Саво. Лидеры движения знали друг друга. Политические установки пробудившихся в годы угнетения отличались от общей пассивной, старофинской позиции духовенства. Они скорее придерживались линии активного сопротивления, младофиннов и шведской партии. Лидеры пробудившихся также близко столкнулись с годами угнетения: религиозный лидер кёрттиляйсетов в Северной Остроботнии, ректор Мауно Розендаль из Оулу, являвшийся ключевой фигурой в конституционной группе, был выслан из страны.
Мятеж красных рассматривался как часть общего распространения безбожия. Пробудившиеся изначально были сторонниками белых, хотя к самому вступлению в войну относились с сомнением. Однако в стране, уже втянутой в гражданскую войну, Малмиваара и Пихкала, как лидеры движения, призывали пробудившихся вступать в ряды белой Финляндии. Мартти Пихкала в разгар гражданской войны обратился напрямую к верующим крестьянам:
Думая об основной силе этой борьбы, мне на ум приходят также и поистине честные пробудившиеся люди, которые, моля о помощи свыше, начали борьбу с обитающей в них самих порчей. Наверняка эти серьезные пробудившиеся и верующие мужи Остроботнии и Саво, готовые взяться за винтовки и организоваться в армию для борьбы с красной сволочью и понявшие практические стороны борьбы нашей белой армии, также поймут, что в борьбе с порчей мы должны организоваться, чтобы, подобно мужам Левия в древности, пройти через стан и поразить мечом нашего суда тех, кто непослушен голосу истины и не желает свернуть с пути порчи и отказаться от ее распространения среди нашего народа. 234
Пихкала объяснял пробудившимся гражданскую войну как борьбу против человеческого эгоизма и мирской порчи: поскольку эта война хотела «уничтожить нынешние и будущие здоровые силы культурных наций», следовало вести ответную войну за истинную веру, честный труд и за еще не рожденное, телесно и духовно здоровое поколение.
Гражданская война была религиозной войной, и ее победа – победой верующих. Таковой она была и для травмированного своим кёртти-прошлым писателя Кюёсти Вилькуны, который признался своему другу и брату по вере, писателю Эйно Райло, что участвовал в восстановлении в стране «порядка и лютеранского уклада». Поэтому он, по его словам, странствовал «по всей Финляндии в качестве начальника шюцкора, полевого судьи, газетчика, проповедника морали, палача и т.д.». 235
После гражданской войны группа молодых академических пробудившихся объединилась в университетских кругах: в Христианском союзе студентов (YKY) они боролись под руководством Элиаса Симойоки против нового международного направления движения, социального христианства. Многие из них, подобно сыну К. Р. Кареса Олави Каресу, еще будучи гимназистами, вступили в Академическое Карельское Общество и посвятили себя не только племенной работе, но и политическим идеям движения. 236
Таким образом, пробудившиеся были не только религиозным, но и политическим движением. Его небольшой круг лидеров, состоявший из духовенства и мирских проповедников и объединявший Остроботнию и Центральное Саво, уже в начале века определил политическим направлением движения активизм за независимость. Националистический радикализм был последовательным шагом вперед на этом пути.
Академическая молодежь пробудившихся, сыновья священнических родов, родившиеся в начале XX века, через YKY и AKS усвоили политическую линию, естественным продолжением которой стало движение Лапуа. Оно объединило старое руководство движения и студентов в противостоянии атеизму, секуляризации и коммунизму в качестве народного движения. Поэтому возмущение, вызванное оскорблением религии, с самого начала было главным оправданием антикоммунистической деятельности лапуаского движения. Арне Сомерсало обобщил это в своей книге «Путь Лапуа»:
Выступления коммунистов стали невероятно наглыми. Религию высмеивали в групповых заявлениях, и один выступавший депутат сам счел свою речь настолько непристойной, что прервал ее. Резкие выступления участников свидетельствовали о нравственном возмущении всего собрания и о твердой, единодушной воле к тому, чтобы играм с высшими ценностями был наконец положен быстрый и полный конец. 237
Распространение нездоровых влияний, особенно среди подрастающей молодежи, следовало предотвратить: «Мы требуем, чтобы религию и страх Божий в этой стране не поносили, и чтобы этот дух поношения не распространялся на детей и молодежь», — требовал К. Р. Карес перед собравшимися на стадионе в Хельсинки участниками крестьянского марша. Сомерсало видел пробудившийся народ авангардом этой борьбы:
Ведь коммунизм — это не что иное, как бунт скрытых в человеческой природе дурных, антиобщественных первобытных сил против всякого порядка и законности — хулиганство во второй степени. Понимая, что религия и нравственное учение являются той основой, на которой строятся все развитие современного мира и культурная жизнь, он взялся их уничтожать. Пиетистский народ Южной Остроботнии инстинктивно почувствовал это наступление и отбил его. 238
Для таких пробудившихся радикалов, как Карес, финны были избранным народом Божьим. Эта интерпретация также отражала преобладавшее среди националистических радикалов телеологическое представление о цели национального существования: в конечном счете оно понималось как провидение, как процесс, управляемый с небес. Финнам было «предназначено сохраниться, расти и развиваться для своей особой цели». 239
Ближайшие будущие повороты этого процесса были покрыты туманом, но было ясно, что целью Провидения не могло быть ничто иное, как доведение до конца национальной задачи Финляндии и возвышение Финляндии до территориально единого финно-угорского национального государства. То есть до Великой Финляндии, возможно, до ведущей державы всего Севера, может быть, даже до орудия Божьего суда над большевизмом и его представителем на земле, Советским Союзом. История в целом была провидением, и поэтому факты и разница в соотношении сил в конечном счете не имели никакого значения. Маленький финский народ был бы способен на все, если бы на его стороне был Бог.
Гнойники движения Лапуа, вскрывшиеся после убийства Минны Краухер, стали шоком особенно для пробудившихся. Руководство народного движения предало народ. Бывшая проститутка и каторжница Краухер вела игру с женатым народным лидером из числа пробудившихся; ходили слухи даже о связи. По крайней мере, известно, что Вихтори Косола любил бывать в обществе Краухер. Выпивка текла рекой и в глотки многих других в салоне Минны.
Помимо сексуального использования власти, пробудившихся, несомненно, беспокоили и вскрывшиеся в прессе сведения о том, насколько центральной фигурой в движении Лапуа представала Краухер, независимо от того, были ли эти сведения правдивыми или нет. Даже если бы реальные заслуги Краухер ограничились приобретением нарукавных повязок для крестьянского марша, ее роль в духовном крахе движения была в конечном итоге велика. «Грешная женщина» описывала как «тайную организацию» движения, так и планы мятежа таким образом, что это сокрушило веру пробудившихся в моральную силу и чистые намерения движения. 240
В Косоле — который духовно, по своим политическим идеям и даже внешне напоминал позднего советского лидера Никиту Хрущева — сочетались южно-остроботнийское, пропитанное пробужденчеством крестьянское мировоззрение и, с другой стороны, идущее от культуры «пууккоюнкеров» безграничное буйство, угрозы и надменное хвастовство, «россайлу». В этом смысле он был почти пугающе близок по духу Кюёсти Вилькуне. Возможно, власть Косолы и не рухнула бы из-за этой двойственности, но штаб подвел. Вокруг Косолы была слишком разрозненная, завистливая и тянущая в разные стороны группа людей, которая в конечном итоге не знала, что делать с властью, получив ее в свои руки. Раз за разом народное движение останавливала также нерешительность его руководства и неопределенность управления. Последнюю черту в итоге так никто и не осмелился провести.
Еще большей потерей, чем утрата репутации Косолы, для народного движения стала потеря доверия собственного народа. За исключением самых верных или глубоко погруженных членов, пробудившиеся покинули народное движение. Завершился один этап в политическом активизме пробудившихся и в финском национальном радикализме.
Последствия мятежа в Мянтсяля
Из церковной деревни Орипяэ далеко добираться куда бы то ни было, хотя она и расположена на старых путях сообщения. В этих краях берет начало река Аурайоки, вдоль которой, словно жемчужное ожерелье, раскинулись деревни, а возникшие в средние века дороги образуют один из старейших культурных ландшафтов Финляндии. В тридцатые годы через Орипяэ проходила дорога Турку-Тампере; другая магистраль, проходящая через церковную деревню, в свою очередь, соединяла церковные деревни Лоймаа и Хуйттинен.
Обычно спокойная и тихая церковная деревня Орипяэ в середине октября 1932 года заполнилась сотнями автомобилей и десятками автобусов. Тысячи людей направлялись на пустошь в нескольких километрах от церкви. Хотя малонаселенный приход никогда не славился своей известностью, именно эта пустошь придала Орипяэ особый статус в Финляндии 1920-х и 30-х годов. В начальной фазе гражданской войны красногвардейцы убили на пустоши тринадцать человек, пытавшихся перейти на сторону белых. В остальном бедной на воспоминания об Освободительной войне Исконной Финляндии Орипяэ стал символом провинции и местом жертвоприношения белого народа.
Члены шюцкора проводили на этой территории свои учения и установили там примитивный памятник. Имя Орипяэ фигурировало в исполненных чести и готовности к жертве некрологах и в провинциальных героических стихах.В тридцатые годы пустошь Орипяэ стала популярным местом, когда фронтовики и движение Лапуа с энтузиазмом взялись за сохранение памяти об Освободительной войне в Исконной Финляндии. Летом 1930 года автомобили привозили «похищенных» на пустошь Орипяэ для избиений и унижений. Вскоре владельцы автомобилей начали строить на этом месте большой памятник. Он был торжественно открыт в присутствии высшего военного руководства страны в сентябре 1932 года.
В октябре, всего через несколько недель после пышных торжеств по случаю открытия, вокруг памятника снова собралась большая толпа. Это мероприятие также носило характер демонстрации. На место прибыло полторы тысячи представителей гражданских собраний движения Лапуа из 39 населенных пунктов. Когда они построились по своим родным местам, пастор Орипяэ приветствовал их и такую же большую толпу зрителей на «святом месте». Мероприятие продолжилось выступлениями оркестра шюцкора, патриотическими речами и совместным пением.
В течение дня было составлено и одобрено приветствие президенту республики: «Белые граждане из Исконной Финляндии, Сатакунты и муниципалитетов Хяме, собравшиеся на месте, где 13 белых мужей отечества пролили свою кровь». В послании выражалась глубокая озабоченность тем, что виновные в мятеже в Мянтсяля все еще содержатся под следствием в тюрьме губернии Турку. Настроение в толпе накалялось по мере продолжения празднеств. Казалось, толпа искала общего экстаза, который требовал в качестве фона активного подхода, действия и угрозы.
Все мышление националистического радикального движения основывалось на действии, поступке, в противоположность политиканству, размышлениям и анализу. Поступок был свободен от компромиссов. Когда что-то было сделано, отменить это было невозможно. Поступок демонстрировал свободу от оков законов, установленных политиками, и определял властную позицию действующего лица. Конечно, с этим были связаны риски. Если поступок не получал одобрения и вызывал достаточное осуждение, он становился семенем собственной гибели действующих лиц. Таких безрассудных поступков было уже слишком много: похищение президента Стольберга, мятеж в Мянтсяля, убийство Минны Краухер.
Бахвальство действиями, угрозы и громкие слова повторялись в деятельности движения Лапуа вплоть до Мянтсяля. Мянтсяля стал завершением двухлетней серии поступков, и последователи движения Лапуа уже не вступали на путь действий с тем же экстазом, что и их предшественники; хотя речи и методы действий менялись не так быстро, как мир вокруг них. Однако собравшаяся теперь в Орипяэ толпа снова требовала действий. Сидящих в тюрьме Турку своих людей следовало освободить, нужно было идти отсюда, из Орипяэ, прямиком в Турку и разнести тюремные стены. Власти ничего не смогли бы им сделать.
Гражданское собрание в Орипяэ было следствием того, что апелляционный суд в начале осени 1932 года объявил расследование событий в Мянтсяля завершенным и сообщил, что обвиняемых можно освободить в ожидании приговоров. Однако правительство не захотело освобождать обвиняемых и, опираясь на закон о чрезвычайном положении, распорядилось, чтобы мужчины оставались за решеткой. Сильно пострадавшему народному движению представилась возможность выступить в роли борца за справедливость: правительство действовало вопреки общему чувству справедливости и решению апелляционного суда. Косола, Валлениус и Суситайвал, все еще находившиеся под следствием, в глазах своих сторонников достигли статуса мучеников. Движение Лапуа мобилизовало своих сторонников, и им снова удалось направить общественное мнение в желаемое русло. По всей стране организовывались совещательные собрания, собирались гражданские делегации и составлялись телеграммы президенту и правительству. Пастор К. Р. Карес переехал в Турку и собрал вокруг себя небольшой штаб, который начал организовывать и возглавлять протестное движение.
Правительство занервничало, и утром 15 октября начальнику тюрьмы губернии Турку Х. А. Русама был отдан приказ освободить четырех обвиняемых: члена руководства движения Лапуа Иивари Койвисто, Пааво Суситайвала и двух лидеров мятежа в Йювяскюля, Вели Бюстрёма и Аарно Тавайла. Заключенные сочли свое освобождение дешевым трюком: они отказались выходить из тюрьмы без своих лидеров. В конце концов всех четырех обмякших заключенных насильно переодели в гражданскую одежду и по одному вынесли за ворота тюрьмы. Там их ждали журналисты и родственники. Госпожа Бюстрём встречала их на машине, на которой освобожденные в итоге отправились в штаб-квартиру Кареса, в бывший центр пробуждения, ныне гостиницу «Хоспис Бетель». Это было старое место деятельности Кареса, откуда он руководил миссионерским центром пробуждения Ханнулы в Исконной Финляндии до того, как стал пастором в Асиккала и Лапуа. Карес и сейчас чувствовал, что выполняет миссию пробуждения.
Чаша терпения патриотически настроенных граждан начала переполняться, когда Вихтори Косола примерно в то же время решил начать голодовку вместе с товарищами, оставшимися в тюрьме. Внимание прессы еще более плотно сосредоточилось на голодающих в тюрьме губернии Турку. Тюремные власти постоянно отвечали на запросы о состоянии заключенных, а те ежедневно получали десятки выражений верности и приветствия цветами.
Частичная уступка правительства усилила протестные настроения по всей Финляндии. За совещательным собранием лапуаски настроенных жителей Южной Остроботнии в Сейняйоки последовало более широкое гражданское собрание в здании муниципалитета Илмайоки, куда набилось более тысячи человек, чтобы выдвинуть свои требования. Атмосфера накалилась еще больше, когда в зал под крики «ура» вошел один из лидеров движения Лапуа, директор банка Иивари Койвисто, освобожденный накануне. В Выборге триста сторонников движения Лапуа из провинции собрались в зале ратуши; в Хямеэнлинна и Турку также были проведены совещательные собрания из-за ситуации с голодающими.
Во вторник, 18 октября, в Хельсинки на встречу с премьер-министром и президентом прибыли представители гражданских собраний из Сатакунты, Турку, Сало и Южной Остроботнии. Также и фракция Коалиционной партии на этом этапе сочла уместным выразить свой протест по делу заключенных, демонстративно посетив премьер-министра. В тот же день газеты писали, как «заложники правительства» в тюрьме губернии Турку начали четвертый день голодовки. В новостях была уже и комичность: согласно подробным сведениям, каждый из заключенных похудел примерно на 3-4 килограмма. Лидером среди худеющих был консул Вальде Сарио, вес которого снизился ровно на четыре килограмма и 700 граммов. В конце концов правительство уступило требованиям делегаций и гражданских собраний. Косола, Сарио, казначей движения Лапуа Арво Линд и причастный к мятежу в Йювяскюля Отто А. Хаглунд были освобождены. За решеткой остался только К. М. Валлениус, и на то были причины: уж бывший начальник генерального штаба и генерал-майор, по крайней мере, должен был знать, что происходило в Мянтсяля, в отношении других нельзя было быть столь уверенным.
Через шесть дней после начала голодовки, в полночь 19 октября, ворота тюрьмы открылись. Вихтори Косола вышел к десяткам журналистов, родственников и любопытных. Толпа обнажила головы и начала петь ставший гимном южных остроботнийцев марш «Памяти героев Вилппулы», прославляющий павших на фронте Вилппулы в гражданской войне южных остроботнийцев. После окончания песни из ворот вышли остальные освобожденные заключенные. Всех осыпали цветами и Карес произнес речь, в которой приветствовал героев на свободе. В речах нападали на политику правительства и напоминали, что в тюрьме еще остались товарищи. После этого маневра процессия во главе с Косолой переместилась в штаб-квартиру Кареса, где заключенные открыто рассказывали журналистам о пережитых несправедливостях.
Освобождение Косолы также не остановило волну протестов. В Турку в актовом зале университета состоялось собрание 200 студентов. В Хельсинки AKS завербовало сотни участников для демонстрации в Турку. Вечером 19 октября Карес организовал в пожарном депо Турку дискуссию о внутриполитической ситуации в стране. На место прибыло полторы тысячи сторонников патриотического народного движения, и по атмосфере мероприятия можно было подумать, что движение Лапуа выиграло одновременно и муниципальные, и парламентские выборы. Настало время для программных речей: из подавленного движения Лапуа произросло IKL, линию которого и выстраивали вечерние речи. «Недавние события показали, что Патриотическое Народное Движение крайне необходимо», — заявил Карес и продолжил: «Оздоровление общественной жизни нашего народа и доведение до абсолютной победы белой идеи зависит от того, как удастся сохранить пробудившийся патриотический дух».
Карес в своей речи подчеркнул законность; по его словам, «страна должна строиться на законе — успех нации основывается на уважении к закону». Сказав это, Карес отметил, что в эти времена уважение к закону ослабло, и силовыми методами вернуть уважение невозможно. Виновником такого состояния нации был прежде всего законодатель, создавший законы, не соответствовавшие народному чувству справедливости. Карес продолжил свою полную противоречий речь, порицая тех, кто считал, что движение Лапуа попирало закон:
Способ и порядок законодательства должны быть изменены, государственная власть должна быть возвышена над партиями. Те изменения, которых требует народное движение в условиях страны, не являются революционными, а строятся на наследии веков. В данный момент судьба требований народного движения кажется безнадежной, но однажды они еще заявят о себе. Настроение Патриотического Народного Движения должно быть распространено так широко, чтобы требования однажды были выполнены. Насилие следует отвергнуть как средство борьбы.
Собрание в пожарном депо избрало делегацию для передачи декларации губернатору губернии Турку и Пори Вилхо Кютяля. Губернатор принял делегацию и сопровождавшую ее толпу, насчитывавшую до полутора тысяч человек, у своего дома. У губернатора народ узнал, что делегация AKS направляется навестить Валлениуса, переведенного в губернскую больницу из-за плохого состояния здоровья. Вскоре у больницы собралась толпа, которая поздно вечером прошла маршем по городу и остановилась на Торговой площади, чтобы спеть гимн «Наш край*».
* песня композитора Фредрика Пациуса на слова Йохана Людвига Рунеберга, де-факто национальный гимн Финляндии. Исполняется как на финском языке, так и с оригинальными словами Рунеберга на шведском.
Утром того же дня Косола со своей свитой отправился домой. Большая толпа, собравшаяся на железнодорожном вокзале Турку, осыпала уезжающих цветами. Начался бесконечный почетный коридор, который закончился только во дворе дома Косолы в Лапуа. На станции Лоймаа сто человек пели патриотические песни и осыпали Косолу цветами; в Хумппила духовой оркестр шюцкора Форссы играл свои лучшие произведения, местные лотты преподнесли Косоле цветочные приветствия. Вихтори Косола провозгласил здравицу в честь отечества и сказал, что ему не разрешено говорить больше. Государственный прием продолжился в родной провинции. После торжеств в Сейняйоки путь продолжился караваном из более чем ста автомобилей по украшенной флагами дороге в Лапуа. В Лапуа Косола обратил внимание на то, что все дома, кроме Тийту и Хонкимяки, вывесили флаги в честь возвращения Косолы. Возвращение Косолы завершилось торжественным мероприятием у братских могил героев в Лапуа; оттуда толпа на золотом стуле донесла Косолу до его собственного двора.
В этом дворе и закончился сказочный путь движения Лапуа.
Партия, которая хотела покончить с партиями
Осень 1932 года была для бывших членов движения Лапуа временем нового пришествия. Протестное движение, сформировавшееся вокруг предварительного заключения Косолы и других лидеров, вновь дало радикалам веру в будущее. Удастся ли снова пробудить народ? Энтузиазм осени и зимы 1932-33 годов был результатом активной и целенаправленной работы. Мятеж в Мянтсяля едва успел закончиться, как в разных кругах уже размышляли о возрождении запрещенного движения Лапуа.
На провинциальных собраниях возбужденные умы уверяли, что «священному огню движения Лапуа не дадут погаснуть». Ситуация привлекала фашистских деятелей, желавших оставить свой след в формирующемся будущем. Одним из них был журналист Эркки Ряйккёнен, бывший личный секретарь президента П. Э. Свинхувуда. За плечами у ингерманландца Ряйккёнена была уже долгая карьера националистического активиста. Он вышел из Академического Карельского Общества из-за жесткого финноманства организации и в 1924 году основал Союз Независимости, который стремился привлекать в свои ряды членов обеих языковых групп. Это была довольно умеренная по своей программе организация, сосредоточенная на «укреплении независимости Финляндии», которой удалось привлечь в качестве почетных членов президента Свинхувуда, художника Аксели Галлен-Каллелу и композитора Яна Сибелиуса.
Вскоре после мятежа в Мянтсяля Ряйккёнен объявил в своей газете «Патриотическая Финляндия», что его союз продолжит ценную работу движения Лапуа. Ряйккёнен и Союз Независимости возьмут бразды правления в свои руки и создадут заменяющее движение, которое и государственная власть могла бы одобрить. Это требовало бы размежевания с движением Лапуа и особенно с участниками мятежа в Мянтсяля. Президент Свинхувуд настоятельно стремился к тому, чтобы новое движение строго придерживалось рамок законности.
Планы начали конкретизироваться. Пятого июня 1932 года в Хямеэнлинна собралось двести сторонников распущенного движения. По итогам шестичасового собрания, закрытого для журналистов и посторонних, было решено основать новую организацию. У нее не будет особого названия, она просто продолжит деятельность движения Лапуа как патриотическое народное движение.
Однако дела пошли не так, как желал президент республики. После учредительного собрания в Хямеэнлинна профессор и заслуженный юрист Бруно Салмиала представил Свинхувуду планы нового движения. Президент был раздосадован, поскольку на руководящие посты все же были выдвинуты старые, запятнавшие себя в движении Лапуа люди, из которых самыми центральными были пастор Карес и главный редактор Сомерсало. Особенно Свинхувуд осудил то, что в программе движения не было упоминания о ведении деятельности в рамках закона.
Несмотря на критику Свинхувуда, очертания возрождающегося народного движения укрепились в течение лета 1932 года. Более умеренная, подчеркивающая законность и примирительная в языковой политике линия Ряйккёнена встретила противодействие. Во дворе дома Косолы под руководством Кареса проводились собрания, на которых требовали послушания находящемуся в тюрьме руководству движения Лапуа. Эта линия победила, когда формирование руководства Патриотического Народного Движения было поручено освобожденному в конце осени из заключения Вихтори Косоле. Косола пригласил в руководство созывателей учредительного собрания IKL, ведущих деятелей AKS Бруно Салмиалу и Вилхо Аннала, а остальные места занял в основном знакомыми южными остроботнийцами. Позже было добавлено несколько представителей из Саво, Карелии и Северной Остроботнии, но их значение осталось незначительным. В Патриотическом Народном Движении объединились две силы; в новом народном движении власть принадлежала идеологам AKS и нескольким ключевым именам старого движения Лапуа, из которых Арне Сомерсало и Пааво Суситайвал особенно представляли европейский дух фронтовиков. 241
Долгое время было неясно, с какой стратегией новое движение пойдет в политику. Если идти на выборы со своими списками кандидатов, реальный масштаб поддержки движения был бы безжалостно раскрыт. В то же время участие в политике превратило бы движение в одну из партий среди прочих. Поэтому в руководстве движения рассматривалась возможность обмана: кандидаты движения скрывали бы свою принадлежность к IKL до выборов и присоединялись к спискам других партий. Только когда соберется новый парламент, избранные депутаты раскрыли бы свои истинные цвета и сформировали бы собственную парламентскую фракцию. В итоге на парламентские выборы 1933 года пошли в избирательном союзе с Коалиционной партией. 242
Результат выборов был сокрушительным поражением для Коалиционной партии. Патриотическое Народное Движение отняло у Коалиционной партии десять депутатских мест. В Хямеэнлинна, городе рождения Патриотического Народного Движения, партия отколола себе половину поддержки Коалиционной партии. Другой проигравшей стороной был Аграрный союз, чьи избиратели перетекли к IKL. Когда парламент собрался осенью, в зале сидело 14 представителей Патриотического Народного Движения, одетых в черные рубашки и синие галстуки. 243
В то же время подтвердилось, что IKL стало ведущей группировкой националистического радикализма и важнейшим политическим каналом финского фашизма. В то время как Косола праздновал победу на выборах, другие мелкие партии крайнего фланга были вынуждены разочароваться. Ни одна другая фашистская организация не провела ни одного кандидата. Результат выборов показал, какой большой поддержкой пользовался радикальный национализм в Финляндии. В лучшие времена IKL смогло набрать на государственных выборах 8,3 процента голосов, а в движении насчитывалось, по оценкам, до 80 000 членов: то есть IKL была малой партией. Поддержка со стороны традиционных правых также вскоре начала ослабевать. Когда умеренное крыло Коалиционной партии наконец поняло, что помимо борьбы с коммунизмом IKL стремится к государственному перевороту, оно под руководством Ю. К. Паасикиви отмежевалось от патриотов. 244
Прорыв Патриотического Народного Движения в общегосударственную политику также означал слом традиционного строгого разделения полов и ролей в радикальных движениях. В партии поневоле приходилось заниматься общим делом вместе. В IKL этот вопрос стал актуальным, когда после выборов 1933 года к ее парламентской фракции присоединилась Хилья Риипинен, уже отработавшая один срок депутатом от Коалиционной партии и являвшаяся одним из основателей IKL. Она стала, пожалуй, самым известным депутатом своей партии, единственной заметной женщиной-политиком IKL, «Свирепой Хильей», невольно бросившей вызов преобладавшему в радикальных кругах образу женщины.
Риипинен, работавшая преподавателем русского и немецкого языков в смешанной школе Лапуа, уже сыграла значительную роль в движении Лапуа. Она вошла в центральное правление организации «Лотта Свярд» и стала главным редактором журнала «Лотта Свярд». Будучи членом конституционного комитета, она сыграла важную роль в продавливании антикоммунистических законов. Жесткость Риипинен также была порождена опытом гражданской войны. Собственный опыт войны энергичной, но чувствительной Риипинен был напрямую сопоставим с европейским фронтовым опытом: она была травмирована, увидев в боях тела своих убитых учеников. Этот опыт имел очевидную связь с политическими убеждениями Риипинен, из которых развилась беспрецедентная серия черпающих из религиозности антилиберальных абсолютных принципов. Одно из ее проявлений можно найти в речи, произнесенной в Ваасе еще в начале 1920-х годов:
Выбора и примирения нет. В великих делах его нет. — Белое и красное так же далеки друг от друга, как восток от запада. Есть только одно решение: один должен уничтожить другого. 245
«В IKL есть особая сила веры», — писала Риипинен после своего перехода в IKL. «Настроение было каким-то весенним. Известно, что ничего сделать нельзя. И все же верят». Весна сменилась осенью, когда начались будни парламентской работы. Риипинен требовала денег для частных средних школ и выступала против Союза мира, заявляя, что «в стране есть две организации мира, шюцкоры и Лотта Свярд». Она также участвовала в актуальной в начале 1930-х годов дискуссии о возвращении смертной казни в уголовный кодекс и поддержала эту инициативу на основании собственного опыта 1918 года. После оскорбления спикера парламента ее на неделю отстранили от парламентской работы. 246
Гендерный вопрос не оставлял Риипинен в покое, как бы она сама ни считала женский вопрос «решенной проблемой»: с точки зрения Риипинен, после освободительной войны у дела националистических радикалов больше не было пола. Однако эта интерпретация была в основном личной точкой зрения Риипинен, остальное руководство IKL ее не разделяло. С точки зрения мужчин из IKL, задачи женщины в народном движении были схожи с задачами в женских организациях Фронтовиков Освободительной войны или Академического Карельского Общества — ближе к варке кофе, чем к занятию политикой.
У IKL (Патриотического народного движения) также была своя женская организация, руководство которой естественным образом досталось Риипинен. По своему характеру организация была в основном клубом для общения жён мужчин — в него входили Анни Валлениус, Виено Коскенниеми и Кертту Ала-Кулъю — но, несмотря на это, недоверие центрального комитета IKL, укомплектованного мужчинами, к активной Риипинен привело к трудностям. Риипинен не приняли в члены центрального комитета, и в октябре 1936 года ситуация обострилась до такой степени, что руководители IKL явились руководить и собранием женской организации. Причиной было то, что «руководство не доверяло политической просвещённости женщин и опасалось, что женщины, ведомые в основном демагогией Риипинен, примут вредные для всей организации решения».247
С отстранением в партии в то же время был связан и горький уход Риипинен из «Лотта Свярд». Открыто сине-чёрная Риипинен стала проблемой, когда во второй половине 1930-х годов «лотты» стремились расширить членскую базу своей организации, уделяя меньше внимания политическому прошлому вступающих. Риипинен исключили из центрального руководства «лотт», и она сама ушла с поста главного редактора газеты «Лотта Свярд».
Путь активной женщины, бросающей вызов мужчинам, оказался трудным в радикальных кругах. Риипинен дистанцировалась от своих, но не отказалась от своей визитной карточки — ярого, почти божественного ценностного консерватизма. В основанной ею газете «Ууси Хуомен» Риипинен заявила, что будет и дальше действовать, чтобы разоблачать те опасности, которые угрожают нашему народу
в марксизме, коммунизме, марксистском социализме, материализме, атеизме, покровительствующем им слабом либерализме и сопутствующем всему этому моральном разложении. 248
Политические цели Патриотического народного движения были синтезом требований объединений «Виентирауха», «Союз Лалли», «Суомен Лукко», Лапуаского движения, Союза фронтовиков Освободительной войны и Академического Карельского Общества. В них входили создание сильной Финляндии, защита достижений белого фронта и Освободительной войны, борьба против коммунизма и чуждого патриотическому мышлению международного социализма, укрепление обороноспособности страны и продвижение прав белого рабочего. На фоне этих ближайших целей главной задачей IKL стала социальная революция, построение народного единства. 249
Понятие «народное единство» (Volksgemeinschaft) было центральным догматом европейского фашизма. Оно было создано в национальных и консервативных кругах Германии XIX века. Его содержание представляло собой смесь консерватизма, государственного социализма и социал-дарвинизма: индивиды были подчинены национальному государству и должны были в соответствии со своими способностями и силами трудиться на благо народного единства. После мировой войны популистские европейские движения переняли понятие народного единства у консерваторов совершенно по-своему: итальянские фашисты и немецкие национал-социалисты осуществляли это единство насильственно. Результат описывался как благородный: в немецкой интерпретации народное единство объединило бы всех истинных немцев, обеспечило бы полную занятость и сделало бы всех достойных принадлежать к нации расовой элитой. 250
По мнению финского исследователя национал-социализма Йоханнеса Эксквиста, народная связь была «внутренней, душевной», она состояла из общего этнического происхождения, общих «обычаев, истории, мифов» и проявлялась «наиболее сильно в широких слоях населения». Нация была живым существом. Спасение индивида зависело исключительно от связи с нацией, которая имела власть связывать и освобождать:
Наконец было понято, что мы не были обречены на изоляцию, гибель и вечные страдания, если только найдётся путь к той телесной и душевной родине, которая одна делала сильным и уверенным в себе: в материнские объятия народного единства. Новое национальное чувство не имело ничего общего с традиционным патриотизмом, оно не основывалось на самолюбии, жажде завоеваний или славы, ни на жажде власти, а в его основе лежала самоотверженная преданность предкам и живым, земле и племени, короче говоря, общине. 251
Нацию нельзя было создать; поэтому членом нации нельзя было ни стать, ни сделаться, чужой был и оставался чужеродным элементом в теле нации. «Образованные граждане всего мира», космополиты, были отчуждены от своего народного единства, так же как и наднациональное меньшинство, подобное евреям. Наднациональность и интернационализирующийся капитализм были напрямую связаны друг с другом. Также и в финской прессе в течение 1930-х годов возникло убеждение о связи международного капитализма с еврейством. Международный «еврейский» капитализм рассматривался как угроза в той же мере, что и связанный с евреями большевизм. В самых смелых фантазиях опасались, что евреи захватят всю деловую жизнь, где, как естественно считалось, они уже действуют вопреки национальным интересам. 252
Поскольку фашисты хотели стереть классовые границы, идея народного единства в любом случае требовала регулирования либеральной экономической жизни. Европейский фашизм боялся не только большевизма, но и «американизации», порождаемой урбанизацией, свободными рынками и потребительским обществом. Свободная рыночная экономика и деньги, перемещающиеся через государственные границы, — посредниками в чём выступали подозрительные еврейские бизнесмены, — не могли отвечать интересам народного единства. Поэтому ключевые отрасли промышленности и банки следовало взять под контроль государства. 253
Недоверие к экономическому либерализму было прямым отражением резкого экономического спада после мировой войны. Там, где государственная экономика не рухнула полностью — как в Германии, — в промышленности и сельском хозяйстве велись ожесточённые забастовочные бои против подозрительного красного профсоюзного движения. Это послужило фоном для подъёма итальянского фашизма. Возникновение Советской России, казалось, давало искры для постоянной нестабильности и социального конфликта. Это заставило недоверчивых по всей Европе браться за оружие и новые теории, которые не способствовали бы ни капитализму, ни коммунизму.
Определение Арне Сомерсало, близкое к религиозному экстазу, не отличалось от уже классической формулы европейского фашизма: народное движение было бы «новой силой, которая указывает путь к самопожертвованию ради создания народного единства». Его задачей было «сломать социальные барьеры», в результате чего все социальные группы «пережили бы возрождение». Конечным результатом была бы сильная нация, в которой каждый жил бы на своём месте, но в то же время признавал бы свой долг перед нацией в целом. Попав в парламент, Патриотическое народное движение стало партией, целью которой было создание нового общества путём уничтожения социальных классов и всех партий, за исключением одной. 254
IX
Чёрная мозаика
Раздробленное организационное поле фашизма 1930-х годов
То, что тираж моей газеты мал, и что представляемое ею мировоззрение ещё не нашло всеобщего понимания в нашей стране, не означает, что оно не право и что оно не может преуспеть. Посмотрите на Германию, там тоже евреи и немцы, находившиеся под влиянием еврейской культуры, считали Гитлера и его идею смешными. Но как обстоят дела сейчас. Разве не 99% немцев стоят за своим фюрером?
Ялмар Фон Бонсдорф (1936)
В конце мая 1933 ГОДА около двухсот человек собрались в бывшем зале заседаний парламента в доме Хеймола в Хельсинки. В программе был доклад председателя Национал-социалистического союза Финляндии Юрьё Рууту. Внешность доктора Рууту не соответствовала образу харизматичного лидера, скорее он напоминал теоретика и серого экономиста. Однако в его речах была искра. Рууту начал с констатации того, как «паразитический шведский высший класс» получил в стране непропорционально много преимуществ. Затем он перешёл к критике конкурирующих с его союзом финских национал-социалистов. Объектом была в особенности «Народная организация Финляндии» егерь-капитана Арви Калсты. Из её рядов порицали сторонников Рууту и утверждали, что те действуют на «деньги масонов и денежных евреев». 255
Шла типичная для фашистского организационного мира внутренняя разборка. Рууту атаковал открыто подражающее немецкому национал-социализму выступление сторонников Калсты. Национал-социализм, по мнению Рууту, не должен был быть просто экстатическим патриотизмом, где вскидывают руку и кричат «Хайль Гитлер!». Опасение казалось напрасным, по крайней мере, в тот вечер в Хеймола. Реакция публики была вялой, из зала донеслось несколько сдержанных аплодисментов и пара слабых одобрительных возгласов. Атмосфера накалилась, когда один из сторонников организации Калсты вошёл в зал посреди речи Рууту. У трибуны мужчина вскинул руку в фашистском приветствии Рууту, не получив ответного приветствия, и начал громко оспаривать утверждения Рууту. Публика тоже оживилась и начала выкрикивать лозунги против Калсты. Мужчине весомыми словами посоветовали отправляться к своим. В конце концов, присутствовавший на месте полицмейстер удалил его из зала. 256
Весна свастик
Весной 1933 года свастики и фашистские приветствия появились на улицах Хельсинки. Оригинальные флаги со свастикой вызывали удивление на улицах Алексантеринкату и Миконкату. В рабочем районе Сёрняйнен они вызвали небольшой бунт. Модели флагов ещё искали свою форму. Флаг Национал-социалистического союза Финляндии, или «руутулайсет», весной 1933 года состоял из красного фона, синей свастики и белого квадрата. Флаг Народной организации Финляндии, или «калсталайсет», в то же время состоял из синего фона, чёрной свастики и белого круга. Газета «Хельсингин Саномат» язвительно отметила, что обе модели флага, виденные на улицах города, были неправильными. Правильную модель, по мнению газеты, стоило пойти посмотреть в порт, где в то время находился корабль, плывущий под новым немецким флагом со свастикой. 257
Флаги и символы были необходимы. Перед парламентскими выборами 1933 года националистические группировки яростно пытались выделиться друг из друга и сделать свой голос услышанным. Кто представлял самый подлинный финский национал-социализм: «руутулайсет» или «калсталайсет», правые рабочие Хедборга, «Искумиехет» Нюканена, «конккалайсет» или Патриотическая народная партия? Или Лапуаское движение, организовавшееся в партию под названием Патриотическое народное движение? Чьи учения были вредны для народного единства? Кто были лишь приспешниками финансовых капиталистов и денежных евреев или тайными марксистами, разгуливающими в маске национал-социализма? Кто были строителями независимой национальной линии, а кто — лишь рабскими подражателями Гитлера?
Одновременно с конкуренцией с идейными братьями нужно было чётко отмежеваться от традиционных левых и правых, шведоязычных и либералов. Газета «Суомен Сосиалидемокраатти» весной 1933 года отмечала, что великие вожди народа стали появляться как грибы после дождя. Неудивительно, что слушателям на выступлениях было трудно во всём разобраться, будь то сторонники идей, просто любопытные граждане, журналисты или информаторы Центральной сыскной полиции. В период фашистского подъёма собрания крайних националистов следовали одно за другим. Особенно популярным местом сборищ был дом Хеймола. Парламент двумя годами ранее переехал в новое здание на Аркадианмяки, и бывшая цитадель парламентаризма теперь была заполнена охранниками с флагами в коричневой форме, фашистскими приветствиями и антидемократическими речами.258
В феврале 1933 года «руутулайсет» смогли привлечь в дом около двухсот слушателей, в начале марта «калсталайсет» собрали на своё мероприятие шестьсот человек. Зал был украшен большими свастиками и лозунгами, такими как «Рабочий, освободись от лжи еврейского марксизма». Днём позже в Хеймола собралась группа из ста человек, называвшая себя Патриотической народной партией, а в начале апреля в доме состоялось первое собрание Национального союза, стремившегося к созданию национал-социалистического единого фронта. В день 15-й годовщины Освободительной войны в Хеймола было организовано самое грандиозное мероприятие весны 1933 года. Патриотическое народное движение провело предвыборное собрание, которое до отказа заполнило зал на две тысячи мест. В том же духе в конце мая в большом зале собралось Академическое Карельское Общество, чтобы послушать мечты о Великой Финляндии Вилхо Хеланена и пастора Элиаса Симойоки, а также воодушевляющие стихи собственного доверенного поэта радикалов Отто Аль-Антилы. 259
Организационное поле националистического радикализма в первой половине 1930-х годов раздробилось на запутанную и хаотичную чёрную мозаику финского фашизма. Катализатором этого развития стал Мянтсяльский мятеж, после которого Лапуаское движение, страдавшее от кризиса лидерства и программы, перестало быть объединяющей силой и каналом для националистических радикалов. Когда история движения закончилась, двери открылись для новых деятелей. За период чуть более десяти лет, с Мянтсяльского мятежа до заключительных этапов Войны-продолжения, в Финляндии успело действовать около тридцати национал-социалистических объединений и выходить около пятнадцати同идейных газет и журналов. Многие чувствовали, что именно они были призваны поднять национальную идею на новый уровень и спасти страну, измученную кризисом. Новых деятелей не обременяло свойственное Лапуаскому движению стремление угодить широким массам. Чёрный цвет больше не нужно было скрывать, и тот, кому не нравился ход дел, всегда мог основать новую, свою собственную группу. 260
Выход отечественного фашизма на авансцену и на страницы газет в 1932–33 годах был тесно связан с событиями в Германии. Всего через несколько месяцев после Мянтсяльского мятежа национал-социалисты Адольфа Гитлера стали крупнейшей партией в Рейхстаге Германии. В январе следующего года Гитлер стал рейхсканцлером. Как и в остальной Европе, за событиями в Германии в Финляндии следили неотрывно. В начале февраля 1933 года бывший лектор финского языка Грайфсвальдского университета, председатель Хельсинкского национал-социалистического объединения Юрьё Веммель открыл публичное мероприятие в Хеймола, приветствуя четыреста присутствующих «в духе Гитлера». Веммель с энтузиазмом рассказывал о последних событиях в Германии и головокружительном политическом взлёте Гитлера. Он был убеждён, что влияние событий в Германии скоро проявится и в Финляндии. В заключение своего выступления Веммель поднял правую руку и выкрикнул приветствие «Хайль Гитлер!». Оркестр почтальонов продолжил программу, исполнив несколько патриотических произведений. 261
Всю весну Веммель читал восторженные лекции о уже достигшей мифических размеров истории Гитлера — от мальчика из бедной семьи до спасителя Германии — и надеялся, что и в Финляндии появится партия, в которой объединится «духовный и кулачный труд». Восхождение Гитлера и его национал-социалистов от хулиганов до правящей силы в Германии вызвало интерес и за пределами радикальных кругов. Журналисты, политики и писатели заинтересовались новым явлением. В Финляндии также мгновенно возник рынок для литературы о национал-социализме. WSOY поспешило издать произведение Ганса Гейнца Эверса «Хорст Вессель», несмотря на то, что это была прямолинейная национал-социалистическая пропаганда. Переводчиком был нанят молодой писатель Мика Валтари. Героями книги были идеализированный и идейно бескомпромиссный Вессель, а также мудро управляющий событиями из-за кулис гауляйтер Большого Берлина Йозеф Геббельс. Сутью произведения было эйфорическое восхищение национальным возрождением:
“Германия, настоящая, истинная Германия, Германия прекрасного прошлого и, несмотря на весь позор, великого будущего — это был Адольф Гитлер и Геббельс и другие вокруг него — и они тоже, бойцы СА [Sturmabteilung]! Они все были едины, одной плоти, в них был один дух, одна надежда и мечта, крепко выкованная и несокрушимая.” 262
Однако волна энтузиазма быстро улеглась. Интеллектуального шедевра национал-социализма, политической автобиографии Гитлера «Моя борьба», в финском переводе пришлось ждать до 1941 года. На угасание энтузиазма, несомненно, повлияла политика Гитлера, которая вскоре заставила и более трезвые умы в Финляндии задуматься о его целях. Однако в год своего издания, в 1933, произведение Эверса получило, в частности, положительный отзыв от великого деятеля финской культуры В. А. Коскенниеми, несмотря на его неприкрытое идеологическое содержание.
Выход на сцену фашистских движений формировал политическую культуру дискуссий как в Финляндии, так и в остальной Европе. Для враждебной по отношению к демократии, парламентаризму и свободе личности речи стало больше места, чем раньше. Русофобии в Финляндии и так не нужно было специально учить, она была институционализирована как часть первой республики. К популистской, чёрно-белой риторике ненависти радикалов было легко присоединиться. Она предоставляла канал для многих, по их собственному мнению, непонятых пророков своей страны.
Одним из многих воодушевлённых был Урхо Мурома, успешный проповедник-возрожденец межвоенного периода, который собирал толпы по всей Финляндии. В газете Патриотического народного движения «Аян Суунта» Мурома мог свободно клеймить культурных либералов, евреев и марксистов. Для него европейский фашизм был прежде всего желанной контрсилой либеральным ценностям:
Поэтому в это время я не могу не приветствовать с радостью даже самые резкие меры, посредством которых стремятся сокрушить ложный и пагубный либерализм. Жизнь, конечно, потом исправит допущенные ошибки, которые случаются и тогда, когда направление верное. Так в Германии. Так и в Финляндии.
Однако самым значительным каналом влияния Муромы на финское общество были не его полные ненависти излияния в «Аян Суунта», а основанная им незадолго до Зимней войны в Кауниайнене Библейская школа Финляндии. Организация действует до сих пор, хотя в представляемом ею образе Мурома — это всего лишь образцовый по своей биографии проповедник и зажигательный автор духовных книг.
После прихода Гитлера к власти Мурома с энтузиазмом следил за кострами из книг, организованными национал-социалистами на Опернплац в Берлине, где в апреле 1933 года националистически настроенные студенты сожгли как «негерманские» ключевые произведения художественной литературы и науки, такие как труды Генриха Гейне, Франца Кафки, Ярослава Гашека и Альберта Эйнштейна. Подобная всеобщая чистка библиотек, по мнению Муромы, должна была быть проведена и в Финляндии: «Была бы это такая уж ужасная потеря, если бы все плохие книги во всех странах мира в один определённый день были бы сообща публично сожжены?» 263
»Смейтесь и издевайтесь, но мы силой приведём вас в национал-социалистическое государство»
Одной из самых заметных национал-социалистических групп весны 1933 года была партия под руководством Юрьё Рууту. Этот активист за независимость, политолог и первый ректор Высшей общественной школы, принадлежавший к ведущим теоретикам общества страны, уже сразу после мировой войны разработал новую теорию государства в своей брошюре «Новое направление». В качестве основной проблемы он видел пропасть между высшими и низшими классами общества: низшие классы стремились к более независимому и уверенному положению, чем это было возможно в обществе свободной конкуренции. Средний класс, разрушенный мировой войной, также пострадал, умственный труд потерял свою ценность:
Кажется, что только деньги правят обществом, государством и определяют условия жизни тех людей, чей труд, увлечения и наклонности не направлены на обогащение. 264
У разжигаемой социалистами классовой борьбы нужно было вырвать жало, «передав экономическую власть от привилегированных классов государству», от крупного капитала — общему благу; в то же время нужно было развивать социальные условия, обеспечивать сохранение независимости и повышать уровень жизни и образования народа. 265
Однако ход времени был быстрее, чем мог ожидать теоретик Рууту: к его разочарованию, из центральных немецких теоретиков национального социализма, Грегора и Отто Штрассеров, тоже стали «гитлеровские» национал-социалисты. Несмотря на это, многие идеи сторонников Рууту поразительно напоминали немецкий национал-социализм. 266
Создание партии стало актуальным в период исканий радикалов после Мянтсяльского мятежа. Помощником был собственный ученик Рууту, писатель Юхани Конкка. Он учился в высшей школе под руководством Рууту и участвовал в мероприятиях национал-социалистического дискуссионного кружка «Васама», который вёл Рууту. Будучи хорошим оратором, Конкка был противовесом теоретическому и серому Рууту. Он родился в Ингерманландии и в 1919 году вместе с семьёй бежал от гражданской войны в России в Финляндию. Когда семья после Тартуского мира вернулась на родину, 17-летний Конкка решил остаться в Финляндии. В 1920-е годы он работал журналистом в нескольких газетах и писал книги о периоде депрессии, племенных войнах и социальных системах.
Рууту и Конкка с энтузиазмом принялись за создание Национал-социалистического союза Финляндии. Осень 1932 года была полна собраний и лекций. В зале «Арбететс Ваннер» в Сёрняйнене велись дебаты с левыми о различиях между национал-социализмом и социализмом. Сотни безработных пришли в Глорию, в новый кинозал, чтобы услышать предложения национал-социалистов по решению проблемы безработицы. К движению присоединились и многие другие энтузиасты, такие как бывший секретарь «Союза Лалли» Антти Саламаа и архитектор Виетти Нюканен. Правда, в рядах сторонников Рууту с самого начала велись споры между радикалами и умеренными. Боевого духа хватало, но привлечь массы на свою сторону оказалось на удивление трудно. В январе 1933 года Конкка пытался организовать дебаты как с Академическим социалистическим обществом, так и с правыми, но был вынужден констатировать перед аудиторией, что ни одна из сторон не проявила интереса к вызову. Вместо этого публика услышала его доклад на тему: «Забастовка колбасников и отношение к ней национал-социалистов». 267
Рууту и Конкка призывали своих соратников быстро создавать новые местные отделения. Результаты не заставили себя ждать. За зиму в Хельсинки были основаны национал-социалистическое объединение чиновников, студенческое объединение, объединение конторских работников и женское объединение. Кроме того, появилось местное отделение в Сёрняйнене и национал-социалистическое объединение «Нуйямиехет». За пределами Хельсинки также были основаны местные отделения, поддержка нашлась особенно в Выборге. В страдающем от депрессии Кайнуу сторонники Рууту смогли основать пять новых организаций. Правда, большинство из них, как например Национал-социалистическое объединение Типасьоки, остались без особой известности. Большое количество местных отделений Национал-социалистического союза, однако, ещё не означало прорыва. Часто отделения оставались начинаниями нескольких человек, как это видно из истории Национал-социалистического объединения Сортавалы.268
Эдвард Карвонен, прозванный бездельником, связался с руководством Национал-социалистического союза Финляндии в Хельсинки и тайно созвал нескольких человек на учредительное собрание у себя дома. Национал-социалистическое пробуждение Карвонен пережил, проведя со своим другом пару лет бродячей жизни в Германии конца 1920-х годов. Домой из своего приключения они вернулись «украшенные нацистскими значками». Местный сыщик Центральной сыскной полиции описывал Карвонена как «хвастливого и полусумасшедшего» бездельника, который жил за счёт своей подруги Ольги Кекяляйнен, приехавшей из Советской России.
На учредительном собрании Национал-социалистического объединения Сортавалы Карвонен рассказывал своей подруге и пяти другим участникам собрания о своих приключениях в Германии и показывал фотографии себя в компании национал-социалистов. Наконец перешли к обсуждению плана действий создаваемой партии. Собрание решило собирать информацию о деятельности евреев и русских, а также о государственных пособиях, предоставленных беженцам, бороться с коммунистами и безработицей и способствовать выдворению всех иностранцев из страны. Сортавальское отделение Центральной сыскной полиции не увидело в затее Карвонена опасности: «Из этой чепухи, вероятно, ничего серьёзного не выйдет, и весь н[ационал]-социалистический союз кажется незначительным». 269
Оценка полиции безопасности оказалась верной. О национал-социалистах Сортавалы больше не было слышно. Однако Эдвард Карвонен не исчез полностью со сцены. После Зимней войны человек с таким же именем возглавлял охранный отряд “ударников” новой национал-социалистической партии, «Организации труда национального обновления». Полиции безопасности снова пришлось высказать своё мнение о Карвонене и его организационном прошлом. По их данным, в «искумиехет» речь шла о безработных хулиганах, которым некомпетентное руководство мешало развиться в реальную угрозу. 270
Как и многие другие партии чёрной мозаики, сторонники Рууту также верили, что политическая победа ждёт их к северу от Длинного моста в Хельсинки, в традиционных рабочих районах. Финских рабочих и безработных, стоявших в очередях за супом в годы депрессии, нужно было завоевать на свою сторону. Как и другим национал-социалистам, сторонникам Рууту также было трудно убедить рабочих в благости своей идеологии. Намеченный Рууту вместо национал-социализма «национальный социализм» обманул лишь самых простодушных. Окончательно суп испортили собственные сторонники. Новая политическая партия в такой степени привлекала к себе как лиц с прошлым в АКС, восхищавшихся итальянским фашизмом, так и тех, кто был увлечён немецким направлением, что партия быстро выскользнула из рук Рууту на общеевропейскую фашистскую линию. Красиво говоря, собственное время доктора Рууту было настолько неинтеллектуальным, что оно вульгаризировало его утончённые теории. По крайней мере, он мог так думать.271
Битва за рабочий класс закончилась поражением, хотя сторонников Рууту, по крайней мере в Хельсинки, нельзя было упрекнуть в недостатке попыток. Накануне дня парламентских выборов в середине лета 1933 года Национал-социалистический союз Финляндии организовал последнее мероприятие своей избирательной кампании в самом сердце левого движения, на поле Каллио в Хельсинки. Сначала на трибуну поднялся Юхани Конкка, который, по словам присутствовавших, во время выступления тщательно пытался подражать знаменитым жестам Гитлера. Публика, состоявшая из рабочих, слушала с интересом, когда Конкка обещал золотые горы, лишь бы партия получила голоса.
В качестве последнего из предвыборных обещаний Конкка пообещал всем собственный автомобиль, как только национал-социалисты придут к власти. Публика разразилась смехом. Конкку освистали с трибуны, и публика ждала выступления следующего оратора. Энсио Уоти, член руководящей тройки партии, был ещё менее отточенным оратором, и его выступление было с самого начала бессвязным. Смешки и выкрики стали такими громкими, что Уоти был вынужден остановиться. Конкка снова бросился на сцену и был встречен криками: «Долой свастичников! Вы не дадите работу нигде, кроме как в концлагерях». Конкка не растерялся. Он завершил мероприятие коротким заявлением: «Смейтесь и издевайтесь, но мы силой приведём вас в национал-социалистическое государство».272
В междоусобной борьбе мелких партий сторонники Рууту оказались в тени своего злейшего конкурента, сторонников Калсты. Несмотря на всё, «руутулайсет» считали себя единственной настоящей национал-социалистической партией и выше других «столярных мастерских». Однако их задевало то, что «калсталайсет» и Патриотическое народное движение получали больше внимания в прессе и на радио. Причиной этого считалось то, что их собственная программа была «пугающе успешной, как показали примеры Германии и Италии», и что власть имущие боялись сторонников Рууту, в то время как других считали безобидными.273
Проснись, Финляндия! Хайль, Финляндия!
Когда егерь-капитан Арви Калста осенью 1932 года основал свою собственную национал-социалистическую партию, он был уже опытным деятелем. Неотъемлемой частью истории Калсты являются его неудачи, которые, по крайней мере по его собственным словам, привели его в политику.
По своему происхождению Арви Калста (до 1927 года Грёнберг), родившийся в 1890 году в Йоэнсуу, принадлежал к военной аристократии молодой республики. Он был одним из первых, кто отправился на егерское обучение в Германию, и вернулся оттуда капитаном. Однако многообещающая военная карьера столкнулась с проблемами уже во время гражданской войны. В Оулу Калста без колебаний застрелил польского офицера, находившегося в городе в качестве военнопленного, так как считал его вооружённым русским. Однако офицер под честное слово получил от Маннергейма разрешение носить оружие и свободно передвигаться по городу. По делу было проведено расследование, в результате которого главнокомандующий оставил Калсту без более сурового наказания, сославшись на «возбуждённое время». Калста отделался 30 сутками казарменного ареста, но настоящие последствия проявились позже: он принадлежал к той немногочисленной группе егерских офицеров, которые остались без повышения в 1918 году. 274
После короткой военной карьеры Калста стал бизнесменом вместе со своим будущим зятем, выборжанином Виктором Тикка. Он сменил фамилию на финскую и в середине 1920-х годов смог приобрести контрольный пакет акций обувной фабрики Ювонен в Тампере. Затем наступил кризис. Фабрика обанкротилась в 1930 году. Будучи крупнейшим владельцем, Калста потерял значительную часть своего состояния.
В то же время Калста, однако, активизировался в политике. В его круг знакомых входила группа националистически настроенных тампересцев, которые весной 1929 года основали Союз фронтовиков Освободительной войны. Калста сразу же присоединился к деятельности и занял видное положение в руководстве организации. Той же весной Калста познакомился и с деятелями «Союза Лалли», которые теперь надеялись видеть Калсту своим лидером. 275
Союз фронтовиков Освободительной войны был для Калсты политическим инструментом, через который он стремился способствовать социальным изменениям и своей собственной карьере. В то время как он участвовал в деятельности фронтовиков в поисках своего политического голоса, он планировал вернуться на службу в силы обороны. Попытка провалилась из-за скандала, потрясшего всю страну. Ударная группа Союза фронтовиков под руководством Калсты летом 1930 года похитила социал-демократического вице-спикера парламента Вяйнё Хаккилу. Хаккилу избили, унизили и угрожали убить. Даже для сторонников Лапуа в разгар их опьянения властью этот случай был для большинства слишком наглым. Поступок вызвал всеобщее осуждение, и Калста оказался под следствием полиции. Его приговорили к тюремному заключению. Зимой 1931–1932 годов он был вынужден бездейственно наблюдать за попыткой переворота в Мянтсяля.
Как политический лидер, Калста не был особенно ярким и не был подстрекателем масс. Он обычно говорил сдержанно и избегал преувеличений. С другой стороны, от него исходила целеустремленность, готовность к действию и лидерство, что также проявлялось в своеволии. Калста часто оказывался в центре событий. Даже после выхода из тюрьмы он не медлил, а продолжал следовать своему политическому призванию. Однако одному он научился. Отсидев сам в тюрьме и увидев поражение мятежа в Мянтсяля, он убедился, что путь насильственного переворота в тогдашней Финляндии невозможен.
Однако новое несчастье ждало уже весной 1932 года. Союз фронтовиков Освободительной войны был запрещен из-за публичной поддержки, оказанной им мятежникам. Воспользовавшись замешательством, Калста попытался захватить власть в свои руки. Он хотел перенести союз в Хельсинки, сменить состав правления и поставить генералов Освободительной войны на руководящие посты. По собственному рассказу Калсты, он просил Маннергейма возглавить союз фронтовиков. Генерал отказался, сославшись на свои обязанности председателя совета обороны. 276
Неудачный манёвр сделал Калсту нежелательной фигурой среди фронтовиков. Он нашел новую среду для деятельности в Патриотическом народном движении. Его работа в газете движения «Ajan Sana» убедила руководство, и поздней осенью 1932 года руководство IKL попросило Калсту разработать программу для организации. Той же осенью он совершил учебную поездку в Германию. Целью двухмесячной поездки было ознакомление с Национал-социалистической немецкой рабочей партией и ее методами работы. Это была не первая поездка, так как Калста, будучи еще членом Союза фронтовиков Освободительной войны, уже ездил знакомиться с деятельностью немецкой националистической фронтовой организации «Стальной шлем».
Спутником Калсты в поездке был Торвальд Ольемарк из Сипоо, на чью жизнь события гражданской войны наложили сильный отпечаток. Красные расстреляли отца Ольемарка в то время, как сын был с членами шюцкора из Сипоо в походе на Пеллинки. После окончания гражданской войны он унаследовал усадьбу Боскис в Сипоо. Послевоенная, неспокойная и полная националистических организаций Германия также привлекала Ольемарка. В конце 1920-х годов Ольемарк познакомился с Генрихом Гиммлером, с которым несколько лет состоял в переписке. В своем спутнике Арви Калсте Ольемарк видел потенциал лидера финского национал-социализма.
Вернувшись из Германии с головой, полной национал-социалистической пропаганды и настроений, Калста приступил к разработке программы для IKL. Проект программы тесно следовал программе немецких национал-социалистов, возможно, даже слишком. Вскоре руководство IKL осознало, что наняло человека, чье своеволие препятствовало плодотворному сотрудничеству. Калсту упрекали в том, что он не прислушивался к пожеланиям заказчика и не желал подчиняться дисциплине. Сотрудничество прекратилось, и на место Калсты генеральным секретарем и организатором союза был назначен Пааво Суситайвал. Еще одна дверь в череде испытаний Калсты закрылась. 277
Грубо отстраненный, Калста затем вместе с Ольемарком приступил к созданию собственной партии. Они обсуждали этот проект еще во время своей поездки в Германию. Организация народа Финляндии должна была стать ведущим представителем национал-социализма в Финляндии. Партия искала точки соприкосновения с другими деятелями радикального поля и сотрудничала, в частности, с лидером антикризисных движений, доктором философии Вяйнё Фритьофом Йоханссоном. Создание долгосрочной коалиции оказалось невозможным. Большим отличием от сторонников Рууту и линии IKL было благосклонное отношение сторонников Калсты к двуязычной Финляндии. На мероприятиях доклады делались как на финском, так и на шведском, и движение получило поддержку в шведоязычных волостях Уусимаа. Основной состав членов новой партии пришел из Хельсинкской ассоциации фронтовиков, с которой у Калсты были хорошие отношения.
Действия Калсты нервировали власти. Особенно его связи с Патриотическим народным движением вызывали подозрения в начале 1933 года. Становилось ясно, что как преемник Лапуаского движения, народное движение хотело двигаться к фашистской модели. По словам одного из лидеров движения Вилхо Аннала, стремления народного движения были направлены не только на устранение сложных государственных недостатков, но и «гораздо глубже и гораздо дальше». Когда в то же время Калста, действовавший в рядах IKL, основывал свою собственную организацию, у Центральной сыскной полиции возникли подозрения. Она рассматривала организацию Калсты в первую очередь как военную ударную группу, для которой были характерны дисциплина и культ лидера. Организация, по образцу НСДАП, была разделена снизу вверх на ячейки, опорные пункты, районы, округа, провинции и центральное руководство. Кроме того, полиция получила информацию о том, что организация пыталась внедриться в шюцкор и полицию. Весной 1933 года Центральная сыскная полиция предполагала, что сторонники Калсты образуют тайную ударную группу Патриотического народного движения, и сравнивала их с боевой организацией партии Гитлера, SA. 278
На самом деле партия Калсты никогда не достигла такого положения. Однако угрозы показывают, с какой серьезностью власти наблюдали за развитием событий. Начальник Центральной сыскной полиции Эско Риекки, интересовавшийся деятельностью радикалов, отнесся к этому серьезно, что также свидетельствует о скрытом потенциале национал-социалистов. Сам Калста на допросе в полиции заявил, что задачей Организации народа Финляндии было оздоровление государственной экономики и внутренней жизни народа, и что «нынешняя система не служит всему народу». В качестве средства достижения целей он указал парламентский путь. Сама реформа начнется только тогда, когда организация получит большинство в парламенте. 279
На парламентских выборах 1933 года Организация народа Финляндии должна была с треском прорваться. Партия Калсты получила большую огласку, и ее мероприятия посещало значительное количество людей. Для партии был создан безупречный внешний вид и пропагандистский аппарат. Было собственное издательство «Васара», свои газеты «Херяя Суоми» и «Хаккорсет», коричневая униформа по образцу SA и собственное приветствие как на шведском, так и на финском языках: Херяя Суоми! – Хелль Финланд! На митинги привозили большие рекламные плакаты, а по улицам Хельсинки ездил автомобиль, украшенный лозунгами и логотипом партии. Калста пытался получить для своих предвыборных мероприятий пропагандистские фильмы от Национал-социалистической немецкой рабочей партии.
Однако на выборах последовало сокрушительное поражение. Несмотря на яростную предвыборную кампанию, Организация народа Финляндии получила лишь немногим более двух тысяч голосов. Националистические голоса достались главному победителю выборов, недавно созданному IKL. Несмотря на результаты выборов, Организация народа Финляндии с большим усердием продолжала свою деятельность до следующей весны. Летом 1935 года организация приобрела в собственность находящуюся в плохом состоянии усадьбу Лелколан в Саво; усадьба недолгое время служила учебным центром организации. Кроме того, у сторонников Калсты был свой офис и кафе на улице Этеляйнен Макасииникату в Хельсинки. В кафе продавалась национал-социалистическая атрибутика и соответствующая литература. Вера была все еще сильна. По мнению Калсты, финский рабочий класс был готов к переменам: «Теперь нельзя больше медлить. Ряды рабочих в беспорядке, но к ним можно подобраться только сильной хваткой. В Сёркке очень ждут наших действий». 280
Проблемой стала нехватка денег. Без денег невозможно было организовывать обучение, рекламу или любую другую деятельность. Однако денег не поступало. Деловые круги относились к организации холодно. Сам, пострадавший от экономического кризиса, Калста видел экономическую ситуацию сквозь коричневые очки: «Мировая еврейская финансовая власть организует деятельность по закабалению всей экономической жизни Северных стран». 281
Конец был лишен драматизма. Популярность организации топталась на месте, и в рядах стало проявляться недовольство лидером. Весной 1936 года Калста принял предложенное ему место директора нового государственного отеля «Похьянхови» в Рованиеми. Торвальд Ольемарк уже ранее потерял свою усадьбу в Сипоо из-за имущественных махинаций национал-социалистического издательского акционерного общества «Васара» и финансовых трудностей. Он умер от туберкулеза в 1938 году в возрасте 38 лет, без семьи и без средств. 282
После того как лидер уехал на север, а поддержка в конечном итоге сошла на нет, история Организации народа Финляндии также подошла к концу. Несколько сотен коричневых униформ и уставных книг остались пылиться в шкафах бывших членов.
Протоариец
В июне 1933 года культурный журнал «Айка» (“Время”) опубликовал два интервью с инженером-капитаном Энсио Уоти. Он только что вернулся из Берлина и был впечатлен увиденным. В журнале он выступил как видный эксперт по национал-социалистической Германии и восхвалял хитрость Гитлера в подчинении правых сил страны экономической политике партии. По словам Уоти, «тот, кто понимает природу национал-социализма, не видит никакой опасности в сильной Германии». Еврейский вопрос, по словам Уоти, уже отходил на второй план: «об их истреблении не было и речи». 283
В журнале Уоти критиковал IKL и Организацию народа Финляндии за то, что они преследуют интересы финансовых кругов, и утверждал, что эти группы не понимают истинной природы национал-социализма.